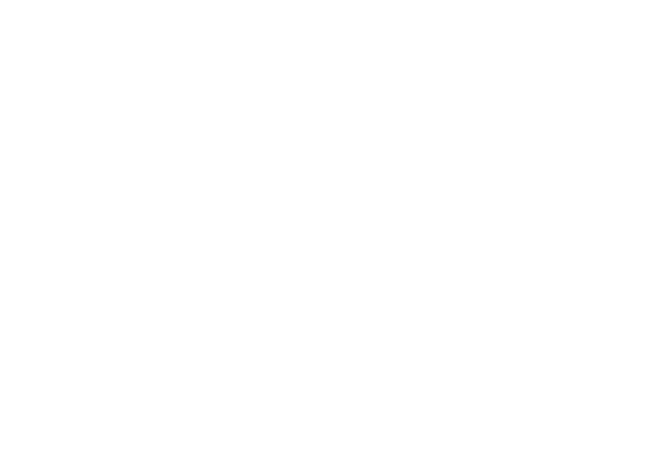Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Филипп Фиссен (Санкт-Петербург, Россия)
НЕОПЛАНКТОНИКИ
НЕОПЛАНКТОНИКИ
Филипп Фиссен - петербургский поэт, прозаик и кинодраматург, основатель "Итальянской школы кино и телевидения в Санкт-Петербурге", известный модельер и продюссер модных шоу, обозреватель журнала "DC Magazine" и колумнист медиаиздания "Абзац".
**
Можно много питать надежд на возрождение культуры в России, освобождённой от прискорбного влияния самонадеянных снобов, соскочивших в Восточное Средиземноморье по зову мифических предков, но…
Откуда вдруг возьмутся платоны и невтоны, которых, несомненно, способна русская земля рождать, если их станут воспитывать всё теми же руками демиурги прошлого? Причём, прошлого самого недавнего – засиженного мухами ошибочной трактовки западно-европейского просвещения, состоящего из множества «-измов». Направлений недоразвитых и экспериментальных, худо-бедно представляющих какие-то группы или сообщества, но вовсе не формирующие цивилизацию. Служащие, как максимум, калейдоскопически изменчивым фоном, где тренды и направления, не в силах определиться, перемешиваются, сталкиваются и опадают, не умея создать сколько-нибудь стройной картины.
Картина западной культуры в России – это такой сумасбродный торговый центр, где цветут и осыпаются на глазах сто цветов. Вылупляющиеся из постмодерна новые имена и «марки» с прилепленными наскоро ценниками – обычно впечатляюще недоступными суммами – сменяют друг друга, не успев закрепиться. Зритель и читатель не успевают зафиксировать впечатление, как оно исчезает в прошлом, словно в кольце Борромео по Лакану. Оставляя лишь послевкусие утраты. Но это для эстетов. Они живут в тревожном мире предчувствий и ожиданий. А что делать простому человеку, привыкшему жить в насыщенном культурном пространстве?
Советское прошлое России оставило своим потомкам жажду к наполненной смыслами интеллектуальной среде. Целью было постоянное развитие личности. Погружение в знание должно было открывать глубины и раскрывать детали большого полотна, создаваемого на протяжении веков усилиями творцов. Художественный поиск происходил в постоянном погружении в океан мировой культуры. И через русское осознание и язык восходить по перегонным трубкам во взвешенном состоянии, проникая во все щели общества. Не делась ставка на элитариев или чернорабочих. В 20-е-30-е годы прошлого века, совсем небогатая страна завалила библиотеки и книжные полки копеечными, изданными на плохой бумаге, сверхдешёвыми книжонками, в которых, однако, была заключена классика мировой литературы. Данте и Гёте, Шекспир, Диккенс, наряду с Пушкиным и Толстым, издавались гигантскими тиражами «культпросветом». Создавалась образовательная и культурная база советского человека. Казалось бы, какого чёрта этот Шиллер в рабочей семье? А вот пожалуйста – на завтрак по две страницы. Через силу. Давясь. Отплёвываясь. Но изволь превратить себя через силу в самый читающий народ.
В Перестройку этот привитый читательский зуд сыграл с обществом злую шутку, обернувшуюся трагедией. Общество, приученное читать везде и всюду, воспринимало любой текст как откровение. Оно не было защищено к тому моменту ничем, кроме надоевшей цензуры, зорко отслеживающей проникновение «чуждых» элементов и проспавшей смену системы. Подспудно зреющая, подпитанная нонконформизмом, который был на самом деле совсем не стихийным процессом, а спланированным вползанием в открытый любому знанию натренированный на алчное его поглощение мозг человека советского змеиного семейства ересей. Это после сказалось и в распространении по стране многочисленных истин – квазирелигиозного бреда, который несли расплодившиеся секты. И в вытеснении даже здравых мыслей о сохранении лучшего, чего добилось общество.
Книжные прилавки заполнила макулатура – пресловутая pulp fiction. В музыке угнездился нью-эйдж – бессвязное блеяние, скомканное из псевдоучений Блавацкой и колониального реформированного индуизма. Невнятность и нечленораздельность речи стала восприниматься как загадочность и иносказательность, к которой прильнули уши и сердца. Чёткий смысл и прямой призыв были отвергнуты как посягательство на свободное мышление. Во всём царила неразбериха. Общество осыпало себя упрёками в следовании одной модели, столкнувшись с разноголосицей, которую всегда издаёт толпа глупцов при своём приближении. Мудрость искали там, где чушь и пустословие. Так нас – «платонов» - превращали в планктон, плывущий за океанскими течениями над самым дном.
Разумеется, победила молодость. Молодость в понимании неопытности и доверчивого ожидания. Ничем, кроме разочарования, такое положение обернуться не могло. Подавленная воля вынесла из культурного потока миллионы. Самых волевых прибило к крепким берегам стяжательства и бандитизма – там формировалась жёсткая субкультура, основанная на множестве табу. По сути – не культура. А настоящая дикость. Пловцы послабее – утопли в шлаке попсы и голливудского лакированного пластика.
И вот момент освобождения. Голливуд, подняв санкционные паруса, свалил, освободив экраны для отечественного кино. Книжные полки раззявили рты в ожидании суверенной прозы. И замерли щербато, обнаружив чахлые дикоросы вместо густых всходов русской романистики и драмы, сбросившей оковы навязанного через своих агентов западного канона.
Что мы получили? Пустоту? Ничто? Опустившиеся руки? Потерю квалификации? Увы, да. Мы разучились говорить с читателем и зрителем на сложном языке, а простым – чеховским - не овладели, по-снобски проигнорировав его. Он показался нам недостаточно изысканным. Творцы ведь стали обращаться к элитариям новой России – к небольшой горстке нуворишей, тяготеющей к мещанству. А с народом стали заговаривать по-барски. Пытались надурить, вводя его в заблуждение ради наживы и возможности возвыситься над ним. Продюсеры стали воображать, что лучше знают, чего ждёт зритель. Писатели – удовлетворять фонды и издательства, спонсируемые извне. Лучшей судьбой мнилось для творца признание на западе. Писатель перестал быть мыслителем. Он влился в планктон на положении сельского старосты при оккупантах – проводником идеи покорности и неизбежности принуждения высшими существами из сверхматериального мира – «неопланктоником». Для кинематографиста воплощением счастья и наградой наград стало продать свой материал Нетфликсу. Пусть за копейки. Пусть хоть так бы взяли (а так и брали), но непременно Нетфликсу, икона которого висела в каждом кабинете киностудий России.
Ну вот нет нет-фликса. Что будем делать? Бросимся имитировать патриотическое искусство теми же руками, которые тянулись к благословенному и святому Фликсу, так не кстати улепетавшему от нас грешных? Ведь творцы привыкли к быстрому результату своих скоропалительных выплесков. Оборачиваемость продукта – дань времени. Отсчёт идёт на секунды: не успел – потерял.
Создать глубокое произведение, с многомерным неплоским героем, исследующее наше сознание, поступки и устремления, разве можно в такой спешке? В крысиных бегах поперек конкурентов, перехватывающих горячие темы и оставляющих после себя выжженную землю – к этой теме, загаженной наскоро, уже нельзя будет вернуться. Нет дискуссии, нет творческого общения, нет обмена. Есть лишь выдернутые друг из-под друга табуретки.
Многомерность персонажа заменена на его якобы «объемность». Под объемностью понимается пошлый приём придания герою отрицательных черт, а его антагонисту – черт благородных. Таким образом, не усложняя персонажей, а приводя их к некоему равенству по канону средненькой европейской драмы. Не к объёму, а к уплощению в соответствие с клише «доброе зло, злое добро». Герой – обязательно жалкий, сломленный, изнасилованный и ничтожный. Его драма не в преодолении, а максимум – в выживании. Внешняя среда не просто агрессивна, а отравлена. Герой, не имеющий внутреннего центра, чтобы выстоять в агрессии внешнего мира, провисает, находясь в постоянно прогрессирующем падении. Разве такого героя хочет зритель? Разве с таким героем он хочет ассоциировать себя? Ладно себя. А своего сына? Дочь? Если да – то нам кранты.
Нам нужно внимательно посмотреть друг на друга и увидеть в каждом своё отражение. Снова начать выслушивать, а не ждать, подрагивая, когда же визави заткнётся, чтоб вставить свои пять копеек. На всё это нужны время и силы. Сад растёт медленно, но высаживать его надо сейчас – в тот счастливый момент, когда западные санитары, державшие нашу творческую волю в смирительных рубахах своего плоского глянцевого заразного мира, сбежали, не затворив дверей.
**
**
Можно много питать надежд на возрождение культуры в России, освобождённой от прискорбного влияния самонадеянных снобов, соскочивших в Восточное Средиземноморье по зову мифических предков, но…
Откуда вдруг возьмутся платоны и невтоны, которых, несомненно, способна русская земля рождать, если их станут воспитывать всё теми же руками демиурги прошлого? Причём, прошлого самого недавнего – засиженного мухами ошибочной трактовки западно-европейского просвещения, состоящего из множества «-измов». Направлений недоразвитых и экспериментальных, худо-бедно представляющих какие-то группы или сообщества, но вовсе не формирующие цивилизацию. Служащие, как максимум, калейдоскопически изменчивым фоном, где тренды и направления, не в силах определиться, перемешиваются, сталкиваются и опадают, не умея создать сколько-нибудь стройной картины.
Картина западной культуры в России – это такой сумасбродный торговый центр, где цветут и осыпаются на глазах сто цветов. Вылупляющиеся из постмодерна новые имена и «марки» с прилепленными наскоро ценниками – обычно впечатляюще недоступными суммами – сменяют друг друга, не успев закрепиться. Зритель и читатель не успевают зафиксировать впечатление, как оно исчезает в прошлом, словно в кольце Борромео по Лакану. Оставляя лишь послевкусие утраты. Но это для эстетов. Они живут в тревожном мире предчувствий и ожиданий. А что делать простому человеку, привыкшему жить в насыщенном культурном пространстве?
Советское прошлое России оставило своим потомкам жажду к наполненной смыслами интеллектуальной среде. Целью было постоянное развитие личности. Погружение в знание должно было открывать глубины и раскрывать детали большого полотна, создаваемого на протяжении веков усилиями творцов. Художественный поиск происходил в постоянном погружении в океан мировой культуры. И через русское осознание и язык восходить по перегонным трубкам во взвешенном состоянии, проникая во все щели общества. Не делась ставка на элитариев или чернорабочих. В 20-е-30-е годы прошлого века, совсем небогатая страна завалила библиотеки и книжные полки копеечными, изданными на плохой бумаге, сверхдешёвыми книжонками, в которых, однако, была заключена классика мировой литературы. Данте и Гёте, Шекспир, Диккенс, наряду с Пушкиным и Толстым, издавались гигантскими тиражами «культпросветом». Создавалась образовательная и культурная база советского человека. Казалось бы, какого чёрта этот Шиллер в рабочей семье? А вот пожалуйста – на завтрак по две страницы. Через силу. Давясь. Отплёвываясь. Но изволь превратить себя через силу в самый читающий народ.
В Перестройку этот привитый читательский зуд сыграл с обществом злую шутку, обернувшуюся трагедией. Общество, приученное читать везде и всюду, воспринимало любой текст как откровение. Оно не было защищено к тому моменту ничем, кроме надоевшей цензуры, зорко отслеживающей проникновение «чуждых» элементов и проспавшей смену системы. Подспудно зреющая, подпитанная нонконформизмом, который был на самом деле совсем не стихийным процессом, а спланированным вползанием в открытый любому знанию натренированный на алчное его поглощение мозг человека советского змеиного семейства ересей. Это после сказалось и в распространении по стране многочисленных истин – квазирелигиозного бреда, который несли расплодившиеся секты. И в вытеснении даже здравых мыслей о сохранении лучшего, чего добилось общество.
Книжные прилавки заполнила макулатура – пресловутая pulp fiction. В музыке угнездился нью-эйдж – бессвязное блеяние, скомканное из псевдоучений Блавацкой и колониального реформированного индуизма. Невнятность и нечленораздельность речи стала восприниматься как загадочность и иносказательность, к которой прильнули уши и сердца. Чёткий смысл и прямой призыв были отвергнуты как посягательство на свободное мышление. Во всём царила неразбериха. Общество осыпало себя упрёками в следовании одной модели, столкнувшись с разноголосицей, которую всегда издаёт толпа глупцов при своём приближении. Мудрость искали там, где чушь и пустословие. Так нас – «платонов» - превращали в планктон, плывущий за океанскими течениями над самым дном.
Разумеется, победила молодость. Молодость в понимании неопытности и доверчивого ожидания. Ничем, кроме разочарования, такое положение обернуться не могло. Подавленная воля вынесла из культурного потока миллионы. Самых волевых прибило к крепким берегам стяжательства и бандитизма – там формировалась жёсткая субкультура, основанная на множестве табу. По сути – не культура. А настоящая дикость. Пловцы послабее – утопли в шлаке попсы и голливудского лакированного пластика.
И вот момент освобождения. Голливуд, подняв санкционные паруса, свалил, освободив экраны для отечественного кино. Книжные полки раззявили рты в ожидании суверенной прозы. И замерли щербато, обнаружив чахлые дикоросы вместо густых всходов русской романистики и драмы, сбросившей оковы навязанного через своих агентов западного канона.
Что мы получили? Пустоту? Ничто? Опустившиеся руки? Потерю квалификации? Увы, да. Мы разучились говорить с читателем и зрителем на сложном языке, а простым – чеховским - не овладели, по-снобски проигнорировав его. Он показался нам недостаточно изысканным. Творцы ведь стали обращаться к элитариям новой России – к небольшой горстке нуворишей, тяготеющей к мещанству. А с народом стали заговаривать по-барски. Пытались надурить, вводя его в заблуждение ради наживы и возможности возвыситься над ним. Продюсеры стали воображать, что лучше знают, чего ждёт зритель. Писатели – удовлетворять фонды и издательства, спонсируемые извне. Лучшей судьбой мнилось для творца признание на западе. Писатель перестал быть мыслителем. Он влился в планктон на положении сельского старосты при оккупантах – проводником идеи покорности и неизбежности принуждения высшими существами из сверхматериального мира – «неопланктоником». Для кинематографиста воплощением счастья и наградой наград стало продать свой материал Нетфликсу. Пусть за копейки. Пусть хоть так бы взяли (а так и брали), но непременно Нетфликсу, икона которого висела в каждом кабинете киностудий России.
Ну вот нет нет-фликса. Что будем делать? Бросимся имитировать патриотическое искусство теми же руками, которые тянулись к благословенному и святому Фликсу, так не кстати улепетавшему от нас грешных? Ведь творцы привыкли к быстрому результату своих скоропалительных выплесков. Оборачиваемость продукта – дань времени. Отсчёт идёт на секунды: не успел – потерял.
Создать глубокое произведение, с многомерным неплоским героем, исследующее наше сознание, поступки и устремления, разве можно в такой спешке? В крысиных бегах поперек конкурентов, перехватывающих горячие темы и оставляющих после себя выжженную землю – к этой теме, загаженной наскоро, уже нельзя будет вернуться. Нет дискуссии, нет творческого общения, нет обмена. Есть лишь выдернутые друг из-под друга табуретки.
Многомерность персонажа заменена на его якобы «объемность». Под объемностью понимается пошлый приём придания герою отрицательных черт, а его антагонисту – черт благородных. Таким образом, не усложняя персонажей, а приводя их к некоему равенству по канону средненькой европейской драмы. Не к объёму, а к уплощению в соответствие с клише «доброе зло, злое добро». Герой – обязательно жалкий, сломленный, изнасилованный и ничтожный. Его драма не в преодолении, а максимум – в выживании. Внешняя среда не просто агрессивна, а отравлена. Герой, не имеющий внутреннего центра, чтобы выстоять в агрессии внешнего мира, провисает, находясь в постоянно прогрессирующем падении. Разве такого героя хочет зритель? Разве с таким героем он хочет ассоциировать себя? Ладно себя. А своего сына? Дочь? Если да – то нам кранты.
Нам нужно внимательно посмотреть друг на друга и увидеть в каждом своё отражение. Снова начать выслушивать, а не ждать, подрагивая, когда же визави заткнётся, чтоб вставить свои пять копеек. На всё это нужны время и силы. Сад растёт медленно, но высаживать его надо сейчас – в тот счастливый момент, когда западные санитары, державшие нашу творческую волю в смирительных рубахах своего плоского глянцевого заразного мира, сбежали, не затворив дверей.
**