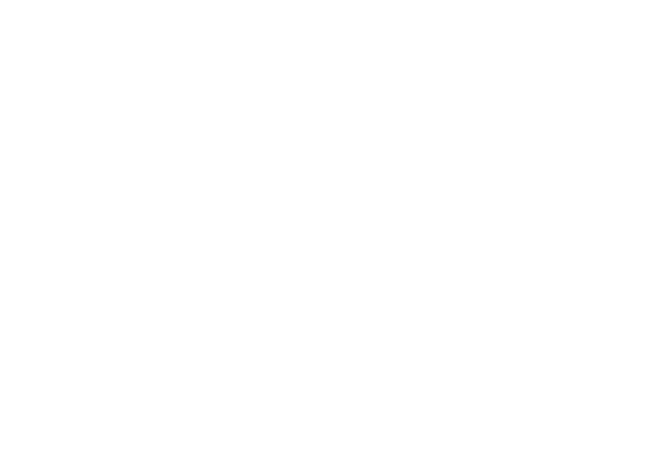Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Филипп Фиссен (Санкт-Петербург, Россия)
Ой, май вэй!
Ой, май вэй!
Трудно противиться судьбе. Древние греки, ещё молодыми и бодрыми заслужившие себе экспертный статус тем, что все свои наблюдения облекали в художественную форму, в которой отливали элементы нашей цивилизации, переходя ко всё более сложному ордеру, применили первый НЛП — когда сюжет их драмы, изобилующий героями, богами и второстепенными персонажами, заходил в тупик, они включали из всех радиоточек хор Судьбы, который мигом усмирял волю всех участников и заставлял их вместе со зрителями покориться неизбежному Фатуму.
Так же поступил и я, приняв на себя возложенное судьбой — стал обозревателем моды и дизайна в «глянце» 2000-х. Не буду вспоминать, как судьба поступила в конце концов с самим «глянцем». Отмечу только, что «глянец» слишком сильно перегнулся через перила, осматривая Провал и вглядываясь в бездну, не пережив тот момент, когда уставшая от эха и окурков бездна взглянула-таки в ответ. Короче, шёл я простой и понятной дорогой дизайнера по широкому простору эпохи дефицита и повстречал Судьбу. Она бывает особенно убедительна, когда ты сворачиваешь в тёмную подворотню непрофильной деятельности, а там она. Да, закурить найдётся.
Навыки обозревателя пришлось формировать спешно, отвечая на запросы времени. Перво-наперво, нужно избрать верный тон. Posh accent, обязательный для всех «кокни», входящих в высшее общество: специально проработанные движения челюстью, оставляющие прочие лицевые мышцы монументально неподвижными. Голос от этого становится проникновенно низким и немного smoky, речь малость невнятной, располагающей собеседника чувствовать себя глуховатым и ничтожным. Такой акцент ставят себе простолюдины, получившие Орден Британской империи: Бекхэм и Джагер, Кевин Спейси и Спайс Гёлз… У нас же им в совершенстве овладели актрисы телесериалов, опасающиеся нападения мимических морщин и мнемонических считалок, в которые они превращают такой манерой любовно написанные для них старательными сценаристами-многостаночниками лирические диалоги бывших доярок, обративших свои внутренние сокровища в «золотой миллиард».
Немало поломав природную живость, этим умением я овладел. И принялся с восторгом громить и вытаптывать всходы отечественного дизайна на нашей скудной почве. Ростки, однако, пробивались и пробивались, давая мне множество поводов зубоскалить и занимать всё больше места в специализированной печати. Впрочем, до самых вершин я не дошел — в «большую четвёрку» меня не пригласили, но пишущему пасквили даже вольготнее находиться в тени Большого брата с офисами в Нью-Йорке и Париже — можно позволять себе выкрики с места, которые не получат увесистого ответа с сиятельных высот.
В конце концов, отличие колумниста от журналиста состоит в том, что журналист пишет о явлениях и событиях, а колумнист — только о себе, используя искривления окружающего мира лишь для того, чтобы оттенить собственное величие. Профессионализмом в этом деле становится умение не ограничиваться вялым заявлением «бра мне не нра», но и выявить предполагаемые изъяны «бры» и обойти стороной объективные достоинства. «Бра» или любой рассматриваемый объект, таким образом, становится не самодостаточным, а как бы взвешивается на весах тщеславия автора. Тщеславие, разумеется, перевешивает.
Всё было бы довольно гладко, если бы не приходилось время от времени лицом к лицу встречаться с обозреваемыми. Посещения света для критика действительности обязательны, а в этой действительности силы могут иметь совсем другой расклад, чем на развороте журнала. Однако Судьба была на моей стороне — я умело балансировал на грани остроты своего слова.
Возвращаясь к амфитеатрам и Мойрам: стал я замечать, что, откликнувшись на зов судьбы, увлекшись критикой чужого творчества, стал я отдаляться от своего, кое кормило меня щедро, и очень прилично одевало окружающих. Но на счастье, по законам жанра, возник вдруг за моим плечом помощник — некий Сосий — так в греческой драме именовался двойник героя, более удачливый и насмешливый, который оберегал героя от поспешных и ошибочных поступков. Он — мой личный критик — возможно, и останавли-вал моё колющее перо в миллиметре от того, чтобы стать порочащим, возвращая меня к человекообразному состоянию. Ещё немного, и из блистательного колумниста и обозревателя я мог бы обратиться в презренного блогера, исчисляющего собственную ценностькалькуляцией подписчиков и «лайков».
Здесь непременно нужно сделать ремарку и немедленно пресечь любую жалкую попытку блогера — этого разнорабочего информационных фабрик — приблизиться к высокому положению колумниста. Не стоит даже сравнивать примитивный эксгибиционизм замарашки-блогера, пусть и миллионника, со вдохновенной эгоцентрической космогонией колумниста, вольготно расположенной на изумительном блеске бумаги, оснащённой дизайнерским «лэйаутом» и сопровождаемой гулкой суетой корректоров и метранпажей. Разве может блогер так блистательно выдавать собственную неуживчивость за несовершенство мира, который, наконец, обретает свою естественную функцию — окружать фигуру колумниста?
Никакие репосты не могут сравниться с чарующими всхлипываниями секретарши главреда и других бессмысленных девиц — бойких и раскрасневшихся стажёрок, изнемогающих от попыток всунуть авторский текст как в тему номера, так и в объём печатного издания. Блогер лишь вползает в происходящее, непрошенный, бочком, надеясь найти себе позицию. Колумнист же прямо с ложа, на котором он царственно возлегает в удобно устроенном отпечатке собственной значимости, возводит личные проблемы на центральное место в системе актуальных вопросов современности. Его, по сути, не интересует движение планет — только собственные ощущения. И именно они служат вердиктом, вынесенным дискретности мироздания.
Этого кафкианского превращения я счастливо избежал. Устоял на краю искушения, а в художники не вернулся — обратного хода мне не открылось.
К чему весь этот многословный и разоблачительный пафос?
Когда я слышу, что художника обидеть может каждый, я пытаюсь справедливо заметить, что далеко не каждый — всё-таки надо иметь к этому тот дар-проклятие, вечный зуд, который перерабатывает тонны пассивной агрессии в кусачий рой строчек.
И второе, что кажется мне моим личным открытием, хотя, скорее всего, таковым не является: художника не может обидеть никто. Потому что тот, кто решился на самостоятельное художественное высказывание, идёт по пути наименьшего сопротивления, слушает только свой внутренний голос и руководствуется только своим представлением о правоте, а стилям и направлениям стремятся соответствовать только эпигоны. Таким образом, художник — творец — взмывает над равниной, где проживают те, кто на этот шаг не способен, будь он даже дьявольски саблезуб и хтонически язвителен.
Так в лабиринтах, по которым провели меня то ли слепая Судьба, то ли прозорливое Провидение, окончательно затерялся безудержный глянцевый критик, а на свет вышел…
(Далее следуют чванливые самовосхваления, которые при первом знакомстве с читателем я продолжу невидимыми чернилами.)
**
Так же поступил и я, приняв на себя возложенное судьбой — стал обозревателем моды и дизайна в «глянце» 2000-х. Не буду вспоминать, как судьба поступила в конце концов с самим «глянцем». Отмечу только, что «глянец» слишком сильно перегнулся через перила, осматривая Провал и вглядываясь в бездну, не пережив тот момент, когда уставшая от эха и окурков бездна взглянула-таки в ответ. Короче, шёл я простой и понятной дорогой дизайнера по широкому простору эпохи дефицита и повстречал Судьбу. Она бывает особенно убедительна, когда ты сворачиваешь в тёмную подворотню непрофильной деятельности, а там она. Да, закурить найдётся.
Навыки обозревателя пришлось формировать спешно, отвечая на запросы времени. Перво-наперво, нужно избрать верный тон. Posh accent, обязательный для всех «кокни», входящих в высшее общество: специально проработанные движения челюстью, оставляющие прочие лицевые мышцы монументально неподвижными. Голос от этого становится проникновенно низким и немного smoky, речь малость невнятной, располагающей собеседника чувствовать себя глуховатым и ничтожным. Такой акцент ставят себе простолюдины, получившие Орден Британской империи: Бекхэм и Джагер, Кевин Спейси и Спайс Гёлз… У нас же им в совершенстве овладели актрисы телесериалов, опасающиеся нападения мимических морщин и мнемонических считалок, в которые они превращают такой манерой любовно написанные для них старательными сценаристами-многостаночниками лирические диалоги бывших доярок, обративших свои внутренние сокровища в «золотой миллиард».
Немало поломав природную живость, этим умением я овладел. И принялся с восторгом громить и вытаптывать всходы отечественного дизайна на нашей скудной почве. Ростки, однако, пробивались и пробивались, давая мне множество поводов зубоскалить и занимать всё больше места в специализированной печати. Впрочем, до самых вершин я не дошел — в «большую четвёрку» меня не пригласили, но пишущему пасквили даже вольготнее находиться в тени Большого брата с офисами в Нью-Йорке и Париже — можно позволять себе выкрики с места, которые не получат увесистого ответа с сиятельных высот.
В конце концов, отличие колумниста от журналиста состоит в том, что журналист пишет о явлениях и событиях, а колумнист — только о себе, используя искривления окружающего мира лишь для того, чтобы оттенить собственное величие. Профессионализмом в этом деле становится умение не ограничиваться вялым заявлением «бра мне не нра», но и выявить предполагаемые изъяны «бры» и обойти стороной объективные достоинства. «Бра» или любой рассматриваемый объект, таким образом, становится не самодостаточным, а как бы взвешивается на весах тщеславия автора. Тщеславие, разумеется, перевешивает.
Всё было бы довольно гладко, если бы не приходилось время от времени лицом к лицу встречаться с обозреваемыми. Посещения света для критика действительности обязательны, а в этой действительности силы могут иметь совсем другой расклад, чем на развороте журнала. Однако Судьба была на моей стороне — я умело балансировал на грани остроты своего слова.
Возвращаясь к амфитеатрам и Мойрам: стал я замечать, что, откликнувшись на зов судьбы, увлекшись критикой чужого творчества, стал я отдаляться от своего, кое кормило меня щедро, и очень прилично одевало окружающих. Но на счастье, по законам жанра, возник вдруг за моим плечом помощник — некий Сосий — так в греческой драме именовался двойник героя, более удачливый и насмешливый, который оберегал героя от поспешных и ошибочных поступков. Он — мой личный критик — возможно, и останавли-вал моё колющее перо в миллиметре от того, чтобы стать порочащим, возвращая меня к человекообразному состоянию. Ещё немного, и из блистательного колумниста и обозревателя я мог бы обратиться в презренного блогера, исчисляющего собственную ценностькалькуляцией подписчиков и «лайков».
Здесь непременно нужно сделать ремарку и немедленно пресечь любую жалкую попытку блогера — этого разнорабочего информационных фабрик — приблизиться к высокому положению колумниста. Не стоит даже сравнивать примитивный эксгибиционизм замарашки-блогера, пусть и миллионника, со вдохновенной эгоцентрической космогонией колумниста, вольготно расположенной на изумительном блеске бумаги, оснащённой дизайнерским «лэйаутом» и сопровождаемой гулкой суетой корректоров и метранпажей. Разве может блогер так блистательно выдавать собственную неуживчивость за несовершенство мира, который, наконец, обретает свою естественную функцию — окружать фигуру колумниста?
Никакие репосты не могут сравниться с чарующими всхлипываниями секретарши главреда и других бессмысленных девиц — бойких и раскрасневшихся стажёрок, изнемогающих от попыток всунуть авторский текст как в тему номера, так и в объём печатного издания. Блогер лишь вползает в происходящее, непрошенный, бочком, надеясь найти себе позицию. Колумнист же прямо с ложа, на котором он царственно возлегает в удобно устроенном отпечатке собственной значимости, возводит личные проблемы на центральное место в системе актуальных вопросов современности. Его, по сути, не интересует движение планет — только собственные ощущения. И именно они служат вердиктом, вынесенным дискретности мироздания.
Этого кафкианского превращения я счастливо избежал. Устоял на краю искушения, а в художники не вернулся — обратного хода мне не открылось.
К чему весь этот многословный и разоблачительный пафос?
Когда я слышу, что художника обидеть может каждый, я пытаюсь справедливо заметить, что далеко не каждый — всё-таки надо иметь к этому тот дар-проклятие, вечный зуд, который перерабатывает тонны пассивной агрессии в кусачий рой строчек.
И второе, что кажется мне моим личным открытием, хотя, скорее всего, таковым не является: художника не может обидеть никто. Потому что тот, кто решился на самостоятельное художественное высказывание, идёт по пути наименьшего сопротивления, слушает только свой внутренний голос и руководствуется только своим представлением о правоте, а стилям и направлениям стремятся соответствовать только эпигоны. Таким образом, художник — творец — взмывает над равниной, где проживают те, кто на этот шаг не способен, будь он даже дьявольски саблезуб и хтонически язвителен.
Так в лабиринтах, по которым провели меня то ли слепая Судьба, то ли прозорливое Провидение, окончательно затерялся безудержный глянцевый критик, а на свет вышел…
(Далее следуют чванливые самовосхваления, которые при первом знакомстве с читателем я продолжу невидимыми чернилами.)
**
(текст, преисполненный снобизма, апломба, самообмана и прочих атрибутов светского городского персонажа эпохи нефтяного благополучия с саморазоблачениями, разнузданным синтаксисом и пожеланиями «доброго дня»)






Филипп Фиссен — дизайнер одежды, продюсер Monte-Carlo Fashion Forum (Монако), организатор конкурса молодых дизайнеров в области джинсовой модной одежды Jeansation (Монако), коллумнист журнала «DC magazine».
Родился в Ленинграде в 1968 году. Будучи студентом ЛГИ им. Плеханова, организовал кооператив «Эксперимент» в 1987 году, став одним из первых участников фэшн-индустрии в нашей стране. В 90-е учился и работал в Европе и Африке. Позднее открыл собственную студию, участник Санкт-Петербургской Международной Недели Моды «Дефиле на Неве». Художник по костюмам для кино и театральных постановок. Более 10 лет является автором в городских изданиях, освещающих моду. В 2009 году основал в Петербурге сеть модных комиссионных бутиков «Селебрити». В настоящее время — организатор Итальянской школы кино и телевидения в Санкт-Петербурге Cinemaestro.
**
Родился в Ленинграде в 1968 году. Будучи студентом ЛГИ им. Плеханова, организовал кооператив «Эксперимент» в 1987 году, став одним из первых участников фэшн-индустрии в нашей стране. В 90-е учился и работал в Европе и Африке. Позднее открыл собственную студию, участник Санкт-Петербургской Международной Недели Моды «Дефиле на Неве». Художник по костюмам для кино и театральных постановок. Более 10 лет является автором в городских изданиях, освещающих моду. В 2009 году основал в Петербурге сеть модных комиссионных бутиков «Селебрити». В настоящее время — организатор Итальянской школы кино и телевидения в Санкт-Петербурге Cinemaestro.
**