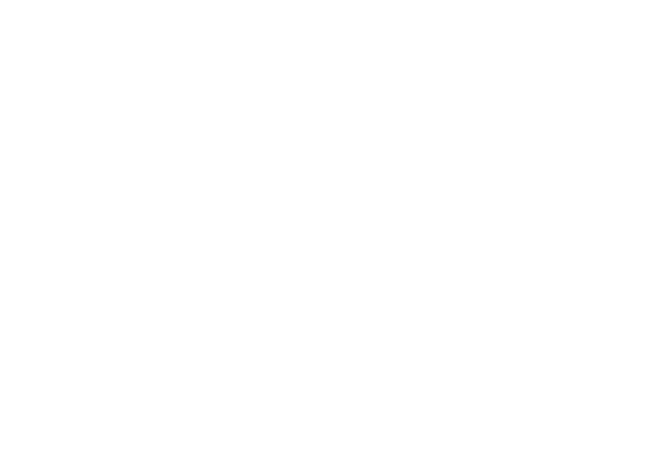Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Павлова (Москва, Россия)
Точка отсчёта
Точка отсчёта
Ирина Павлова - киновед, кинокритик, сценарист, эссеист. Художественный руководитель российских программ Московского Международного кинофестиваля и программ Санкт-Петербургского кинофестиваля «Виват кино России».
Я давно пыталась ухватить во времени точку отсчёта, когда литература перестала владеть умами, создавать те смыслы и значения, которые создавала веками.
Словесность для человечества несколько тысячелетий подряд была, если угодно, смыслообразующим элементом жизни, фактором, вообще так или иначе оправдывающим земное существование человечества, когда передаваемая и пополняемая от поколения к поколению, от века к веку «библиотека человечества» стала хранилищем и людской памяти (историей), и итогом раздумий о смысле жизни (философией), и размышлений людей о Боге (богословием), и словесного воссоздания мыслей и чувств (собственно художественной литературой).
Более того, если историю постоянно и фундаментально переписывали, если философия не стояла на месте и всё время развивалась (нередко даже собственную деградацию воспринимая как развитие), если богословские споры нередко скукоживались до мелочных споров о богослужебной обрядности, то с художественной литературой ничего было невозможно поделать, особенно с развитием книгопечатания и с постоянным расширением читательского круга.
То есть несмотря даже на то, что рукописи, увы, горят и подчас произведения литературы на самом деле бесследно исчезали с лица планеты, но слова и смыслы, литературой сгенерированные, оставались жить в умах и рано или поздно всё равно воспроизводились в новых произведениях литературы.
Люди учились любить и ненавидеть по книгам, люди подражали героям книг, люди сами себя мерили этими героями.
Менялись времена, «библиотека мира» всё разрасталась, её уже физически становилось невозможно прочесть одному человеку за одну жизнь, но люди продолжали читать, разговаривать и думать о прочитанном и сами не замечали, как это вот прочитанное формировало и их личность, и их язык, их представления об окружающем мире и сам способ их мышления.
Недаром люди одного поколения читали примерно одно и то же и видели картину мира примерно одинаковой — с поправкой на личные мировоззренческие различия.
Я помню времена, когда из каждого почтового ящика торчало несметное количество не помещающихся туда журналов, когда книгу, изданную миллионным тиражом, невозможно было купить, а на собрания сочинений великих (или не очень великих, но популярных) писателей записывались (и отмечались в очередях) за несколько месяцев.
Писательский труд воспринимался почти как сакральный, писатель был «властителем дум», а поэты на чтение своих стихов собирали стадионы.
Мне часто говорят, что всё это закончилось с распадом Союза, с появлением концепции потребительства.
Ну, допустим.
Но концепция эта в мире родилась куда раньше, чем у нас, а писать, читать и думать в мире тем не менее никто не переставал.
Просто становилось как-то всё меньше писателей — «властителей дум» и всё больше развлекающих. Сначала немножко маскировавшихся под серьёзную литературу и свои тексты ловко упаковывавших в обертку «изящной словесности».
Потом и вовсе переставших.
И это — не про макулатуру, не про «Маруся отравилась» («Маруся», кстати, существовала давно, вполне себе параллельно с изящной словесностью и с «дум высоким стремленьем»). Это про то, что так или иначе всё же числилось литературой.
Потом понемногу окреп и расцвел «постмодерн», это когда один неглупый копрофил учит массу тупых копрофилов разбираться в сортах дерьма, «ибо вся жизнь — дерьмо».
Потом и умные копрофилы понемногу стали глупеть — приближаться к своему читателю.
И в этот самый миг я вдруг отчётливо поняла, что корень проблемы именно в этом.
В «приближении к читателю».
Ну правда, литератор же всегда был отчасти «очкариком в башне из слоновой кости». Он мог в жизни быть кем угодно, мог быть сколь угодно ниже самого низкого из своих читателей, но как только перед ним оказывались перо и бумага (даже если пером была пишущая машинка), он становился кем-то, кто витает неизмеримо выше и со своей вершины видит события и людей совершенно иначе, нежели глаза в глаза.
Для него, для художника, мир становился словно бы прозрачным, и всё, что мир и человек усердно скрывали от окружающих, для писателя переставало быть тайной.
В этом всегда и состоял великий дар — дар провÅдения — хоть Гомера, хоть Шекспира, хоть Филдинга, хоть Достоевского или Толстого. Имя им — легион.
Эти люди, приступая к сочинительству, переставали быть мелкими лавочниками, или неудачливыми игроками, или посредственными актёрами.
Они моментально становились властителями дум, возвышаясь над толпой.
Им, разумеется, тоже хотелось нравиться толпе — успех всякому мил.
Но цель своего творчества они видели в том самом искусстве прозревать истину вглубь, под оболочку.
Недосягаемость была тем волшебным одеянием, которое внезапно отделяло их от мелочной бытовой суеты.
Их образу далее уже следовали театр и кинематограф, обучаясь вставать на котурны, обучаясь достигать вершин.
Но всё равно: в начале было СЛОВО.
Человечество не заметило, как, усиленно борясь с их «небожительством» (исключительно в интересах демократичности искусства), добилось лишь того, что за подол тоги стащило их с вершин на уровень помойки.
И само же стало брезговать их читать и даже слушать.
Люди стали хвататься за те старые тома старых авторов, где им с вершины объясняли их собственную низость, но где заглянувший за их тленную оболочку писатель видел и их сокрытую красоту души, их жажду высокого и прекрасного.
Конечно, далеко не все схватились за старые тома.
Зато все практически внезапно испытали непреодолимое отвращение к этой новой стилистике, к поучениям копрофилов.
Сегодня отток читательской массы от современной литературы констатируют практически все мировые социологи. Но они же констатируют и то, что читать старую литературу могут ныне далеко не все. Ибо отучены вычитывать смыслы за словами, ибо отучены уже и от художественной речи, и от извлечения потаённого из очевидного.
Я не стану здесь приводить примеров из литературы, дабы не обременять читателя длинным цитированием, но напомню один кинематографический провал годичной давности.
Я о фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Я немного читала про эту знаменитую историю.
Событие было незаурядным даже для своего времени: три историка-летописца написали о нём, и ещё несколько хроникёров отметили в своих записях это событие.
Дуэль «Божьего суда» сама по себе не была чем-то из ряда вон выходящим.
Из ряда вон выходящим была причина — защита чести женщины в ситуации, когда проще и привычнее было промолчать. Если совсем по правде, так, возможно, было бы и правильнее. По крайней мере, в то время. Но женщина решила иначе.
Именно это событие изменило судьбу небогатого провинциального рыцаря-неудачника Жана де Карружа, сделав его богатым и преуспевающим лендлордом.
Споры о том, был ли его противник, Жак Ле Гри, виновен в том, в чём его обвинили супруги Карруж, не утихают вот уже больше 600 лет.
Ридли Скотт однозначно принял сторону победителя, хотя и его, судя по картине, терзали смутные сомнения: по скудным историческим свидетельствам, Ле Гри отнюдь не был негодяем, просто человеком, существовавшим по правилам своего времени. Напротив — он был вполне достойным человеком, для которого репутация была ценнее жизни.
Как, впрочем, и для его соперника.
Но речь сейчас вообще не о достоинствах или недостатках той картины.
Я понимаю, фильм был обречён на зрительский провал — это вам не «Гладиатор» того же Скотта. Это фильм-размышление над нравственной дилеммой. Фильм-диспут, временами откровенно скучный.
Но эти два с половиной часа отнюдь не эпического и не приключенческого повествования всё равно потрясают.
И совершенно потрясает то, как этому старому, 84-летнему режиссёру по-прежнему удаётся то, что ускользает между пальцами у более молодых коллег: абсолютно достоверная материальная среда и невероятная правда характеров. Жестокость, грязь, пот, кровь.
Живое трепещущее мясо истории.
Соединение в одних и тех же людях мелочности и величия, суровости в вопросах чести и способности к пошлому личному бесчестию.
Престарелый режиссёр, за свою карьеру наснимавший множество бестселлеров и блокбастеров, на склоне лет сделал фильм, не предназначенный нравиться широкой публике.
Он, для которого каждый новый фильм уже может стать последним, снял кино, которое должно было понравиться ему самому.
Для него это оказалось важнее всего, чему он посвятил свою фантастическую карьеру (70 с лишним фильмов — это в самом деле фантастический результат режиссёрской карьеры!).
Успех, который всегда был его личным идолом, перед лицом Вечности уступил место необходимости ВЫСКАЗАТЬСЯ.
Высказаться, а не поболтать за чашкой чаю.
И так, в сущности, венчал свою карьеру отнюдь не каждый режиссёр (даже великий), но практически каждый великий писатель. Зачастую поступаясь тем, что прежде приносило ему успех.
И именно за ними, за этими самоистязательными актами творчества и за этими прозрениями, оставалась всегда историческая правота и, как ни странно, оставался и читатель — поколение за поколением, век за веком.
Я подумала вдруг: Ридли Скотт хотел «остаться одним из томов всемирной библиотеки» — той, которая будет переходить к потомкам в наследство от предков, которую не стряхнут с полки «по устарелости», потому что вечное не устаревает.
Устаревает «актуальное». Сиюминутно.
Потому что актуальность рано или поздно заканчивается, уступая место другой актуальности.
А вечное живет вечно. Ну, хотя бы потому, что кто-то из любознательных потомков однажды обязательно возьмёт и научится утраченному было искусству видеть за словами смыслы.
Хотя бы для того, чтобы прочесть эту «всемирную библиотеку».
**
Я давно пыталась ухватить во времени точку отсчёта, когда литература перестала владеть умами, создавать те смыслы и значения, которые создавала веками.
Словесность для человечества несколько тысячелетий подряд была, если угодно, смыслообразующим элементом жизни, фактором, вообще так или иначе оправдывающим земное существование человечества, когда передаваемая и пополняемая от поколения к поколению, от века к веку «библиотека человечества» стала хранилищем и людской памяти (историей), и итогом раздумий о смысле жизни (философией), и размышлений людей о Боге (богословием), и словесного воссоздания мыслей и чувств (собственно художественной литературой).
Более того, если историю постоянно и фундаментально переписывали, если философия не стояла на месте и всё время развивалась (нередко даже собственную деградацию воспринимая как развитие), если богословские споры нередко скукоживались до мелочных споров о богослужебной обрядности, то с художественной литературой ничего было невозможно поделать, особенно с развитием книгопечатания и с постоянным расширением читательского круга.
То есть несмотря даже на то, что рукописи, увы, горят и подчас произведения литературы на самом деле бесследно исчезали с лица планеты, но слова и смыслы, литературой сгенерированные, оставались жить в умах и рано или поздно всё равно воспроизводились в новых произведениях литературы.
Люди учились любить и ненавидеть по книгам, люди подражали героям книг, люди сами себя мерили этими героями.
Менялись времена, «библиотека мира» всё разрасталась, её уже физически становилось невозможно прочесть одному человеку за одну жизнь, но люди продолжали читать, разговаривать и думать о прочитанном и сами не замечали, как это вот прочитанное формировало и их личность, и их язык, их представления об окружающем мире и сам способ их мышления.
Недаром люди одного поколения читали примерно одно и то же и видели картину мира примерно одинаковой — с поправкой на личные мировоззренческие различия.
Я помню времена, когда из каждого почтового ящика торчало несметное количество не помещающихся туда журналов, когда книгу, изданную миллионным тиражом, невозможно было купить, а на собрания сочинений великих (или не очень великих, но популярных) писателей записывались (и отмечались в очередях) за несколько месяцев.
Писательский труд воспринимался почти как сакральный, писатель был «властителем дум», а поэты на чтение своих стихов собирали стадионы.
Мне часто говорят, что всё это закончилось с распадом Союза, с появлением концепции потребительства.
Ну, допустим.
Но концепция эта в мире родилась куда раньше, чем у нас, а писать, читать и думать в мире тем не менее никто не переставал.
Просто становилось как-то всё меньше писателей — «властителей дум» и всё больше развлекающих. Сначала немножко маскировавшихся под серьёзную литературу и свои тексты ловко упаковывавших в обертку «изящной словесности».
Потом и вовсе переставших.
И это — не про макулатуру, не про «Маруся отравилась» («Маруся», кстати, существовала давно, вполне себе параллельно с изящной словесностью и с «дум высоким стремленьем»). Это про то, что так или иначе всё же числилось литературой.
Потом понемногу окреп и расцвел «постмодерн», это когда один неглупый копрофил учит массу тупых копрофилов разбираться в сортах дерьма, «ибо вся жизнь — дерьмо».
Потом и умные копрофилы понемногу стали глупеть — приближаться к своему читателю.
И в этот самый миг я вдруг отчётливо поняла, что корень проблемы именно в этом.
В «приближении к читателю».
Ну правда, литератор же всегда был отчасти «очкариком в башне из слоновой кости». Он мог в жизни быть кем угодно, мог быть сколь угодно ниже самого низкого из своих читателей, но как только перед ним оказывались перо и бумага (даже если пером была пишущая машинка), он становился кем-то, кто витает неизмеримо выше и со своей вершины видит события и людей совершенно иначе, нежели глаза в глаза.
Для него, для художника, мир становился словно бы прозрачным, и всё, что мир и человек усердно скрывали от окружающих, для писателя переставало быть тайной.
В этом всегда и состоял великий дар — дар провÅдения — хоть Гомера, хоть Шекспира, хоть Филдинга, хоть Достоевского или Толстого. Имя им — легион.
Эти люди, приступая к сочинительству, переставали быть мелкими лавочниками, или неудачливыми игроками, или посредственными актёрами.
Они моментально становились властителями дум, возвышаясь над толпой.
Им, разумеется, тоже хотелось нравиться толпе — успех всякому мил.
Но цель своего творчества они видели в том самом искусстве прозревать истину вглубь, под оболочку.
Недосягаемость была тем волшебным одеянием, которое внезапно отделяло их от мелочной бытовой суеты.
Их образу далее уже следовали театр и кинематограф, обучаясь вставать на котурны, обучаясь достигать вершин.
Но всё равно: в начале было СЛОВО.
Человечество не заметило, как, усиленно борясь с их «небожительством» (исключительно в интересах демократичности искусства), добилось лишь того, что за подол тоги стащило их с вершин на уровень помойки.
И само же стало брезговать их читать и даже слушать.
Люди стали хвататься за те старые тома старых авторов, где им с вершины объясняли их собственную низость, но где заглянувший за их тленную оболочку писатель видел и их сокрытую красоту души, их жажду высокого и прекрасного.
Конечно, далеко не все схватились за старые тома.
Зато все практически внезапно испытали непреодолимое отвращение к этой новой стилистике, к поучениям копрофилов.
Сегодня отток читательской массы от современной литературы констатируют практически все мировые социологи. Но они же констатируют и то, что читать старую литературу могут ныне далеко не все. Ибо отучены вычитывать смыслы за словами, ибо отучены уже и от художественной речи, и от извлечения потаённого из очевидного.
Я не стану здесь приводить примеров из литературы, дабы не обременять читателя длинным цитированием, но напомню один кинематографический провал годичной давности.
Я о фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Я немного читала про эту знаменитую историю.
Событие было незаурядным даже для своего времени: три историка-летописца написали о нём, и ещё несколько хроникёров отметили в своих записях это событие.
Дуэль «Божьего суда» сама по себе не была чем-то из ряда вон выходящим.
Из ряда вон выходящим была причина — защита чести женщины в ситуации, когда проще и привычнее было промолчать. Если совсем по правде, так, возможно, было бы и правильнее. По крайней мере, в то время. Но женщина решила иначе.
Именно это событие изменило судьбу небогатого провинциального рыцаря-неудачника Жана де Карружа, сделав его богатым и преуспевающим лендлордом.
Споры о том, был ли его противник, Жак Ле Гри, виновен в том, в чём его обвинили супруги Карруж, не утихают вот уже больше 600 лет.
Ридли Скотт однозначно принял сторону победителя, хотя и его, судя по картине, терзали смутные сомнения: по скудным историческим свидетельствам, Ле Гри отнюдь не был негодяем, просто человеком, существовавшим по правилам своего времени. Напротив — он был вполне достойным человеком, для которого репутация была ценнее жизни.
Как, впрочем, и для его соперника.
Но речь сейчас вообще не о достоинствах или недостатках той картины.
Я понимаю, фильм был обречён на зрительский провал — это вам не «Гладиатор» того же Скотта. Это фильм-размышление над нравственной дилеммой. Фильм-диспут, временами откровенно скучный.
Но эти два с половиной часа отнюдь не эпического и не приключенческого повествования всё равно потрясают.
И совершенно потрясает то, как этому старому, 84-летнему режиссёру по-прежнему удаётся то, что ускользает между пальцами у более молодых коллег: абсолютно достоверная материальная среда и невероятная правда характеров. Жестокость, грязь, пот, кровь.
Живое трепещущее мясо истории.
Соединение в одних и тех же людях мелочности и величия, суровости в вопросах чести и способности к пошлому личному бесчестию.
Престарелый режиссёр, за свою карьеру наснимавший множество бестселлеров и блокбастеров, на склоне лет сделал фильм, не предназначенный нравиться широкой публике.
Он, для которого каждый новый фильм уже может стать последним, снял кино, которое должно было понравиться ему самому.
Для него это оказалось важнее всего, чему он посвятил свою фантастическую карьеру (70 с лишним фильмов — это в самом деле фантастический результат режиссёрской карьеры!).
Успех, который всегда был его личным идолом, перед лицом Вечности уступил место необходимости ВЫСКАЗАТЬСЯ.
Высказаться, а не поболтать за чашкой чаю.
И так, в сущности, венчал свою карьеру отнюдь не каждый режиссёр (даже великий), но практически каждый великий писатель. Зачастую поступаясь тем, что прежде приносило ему успех.
И именно за ними, за этими самоистязательными актами творчества и за этими прозрениями, оставалась всегда историческая правота и, как ни странно, оставался и читатель — поколение за поколением, век за веком.
Я подумала вдруг: Ридли Скотт хотел «остаться одним из томов всемирной библиотеки» — той, которая будет переходить к потомкам в наследство от предков, которую не стряхнут с полки «по устарелости», потому что вечное не устаревает.
Устаревает «актуальное». Сиюминутно.
Потому что актуальность рано или поздно заканчивается, уступая место другой актуальности.
А вечное живет вечно. Ну, хотя бы потому, что кто-то из любознательных потомков однажды обязательно возьмёт и научится утраченному было искусству видеть за словами смыслы.
Хотя бы для того, чтобы прочесть эту «всемирную библиотеку».
**