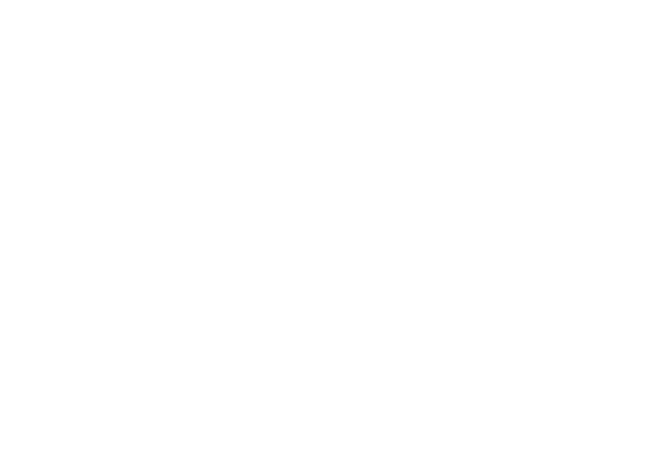Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина Уварова (Санкт-Петербург)
«Гении Петербурга»
«Гении Петербурга»
Родилась в Ленинграде. В 1999 году окончила Университет культуры и искусств (СПб), кафедра музееведения и истории памятников. С 1999 г. работаю в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. Очень люблю родной город.
(«Город пышный, город бедный», «самый фантастический город с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Одним словом – Петербург)
В прошлом 2024 году мы отметили 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В наступившем, 2025 году исполнилось 300 лет со дня смерти Петра I. В эти годы календарь не содержит в себе ни одной крупной и круглой даты, связанной с именем Фёдора Михайловича Достоевского. Но так сложилось судьба Петербурга, что говоря о нём, мы обязательно вспоминаем эти три имени: Пётр I, Пушкин, Достоевский.
В музее Ф.М. Достоевского в Петербурге в 2024 году к юбилейной Пушкинской дате была создана выставка «Город пышный город бедный...», которая дала возможность наглядно проследить взаимосвязь личного и творческого у Пушкина и Достоевского через призму «самого фантастического города на свете» – Петербурга.
Их разделяли 22 года – миг. С 1837 года – вечность. И Достоевский всю жизнь словно пытался сократить расстояние. Его первые 15 лет они были современниками. Только Пушкин, конечно, не мог даже и подозревать, что у Марьиной Рощи, на казённой квартире при больнице растёт мальчик, который упивается его гениальной и чистой поэзией. Впитывает живительную влагу, вбирает каждую каплю, в которой отражается весь океан Пушкинского таланта. Все его строфы, строки и рифмы, которые увидели свет, отпечатались в сердце сына врача Мариинской больницы для бедных и сохранились в нём на всю жизнь.
Приехав в Петербург пятнадцатилетним юношей, Достоевский начинает знакомиться с городом. Во многом, или в первую очередь, с Петербургом Пушкина. Один из первых адресов, который он хочет посетить в столице, в которой он в мае 1837 года окажется впервые, это Мойка 12, дом, где снимал свою последнюю квартиру Пушкин. Получив образование в столице, опубликовав здесь своё первое произведение, Достоевский несомненно будет писать о Петербурге. Их с Пушкиным взгляды на Петербург, как бы это, возможно, странно не прозвучало, гораздо более схожи и близки, чем мы привыкли думать.
Это Пушкин сумел, как обычно, гениально и ёмко выразить в нескольких словах всю красоту и мощь столицы: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид». Люблю. Видя Петербург глазами Пушкина, неужели отзывчивое мальчишеское сердце Федора Достоевского не билось восторженно и не любило, как сам поэт, этот, еще лично ему не знакомый город?
Мы привыкли воспринимать Петербург Пушкина как парадный, светский, блистательный и роскошный. А у Достоевского он всё-таки серый и сирый, неустроенный и неуютный.
Но оказывается, что и Пушкинский Петербург предстаёт не только в сиянии и блеске, да и у Достоевского он является не исключительно унылым и бедным. Хотя, несомненно, трудно забыть «громады стройные теснятся дворцов и башен...» и, оглядевшись, всмотреться попристальнее и за гениальной поэзией разглядеть скромный в некоторых своих уголках, ещё один, Пушкинский Петербург. Там «Домик в Коломне», где живёт бедная вдова с дочкой. Именно туда, в Коломну, где у родителей когда-то жил сам, устремляется Пушкин своими воспоминаниями: «Я живу теперь не там, но верною мечтою люблю летать, уснувши наяву, в Коломну, к Покрову...».
Именно в этих, погружённых в постоянную дрёму пространствах на окраине Петербурга, при малейшем намёке на наводнение, появляется вода, расквашивая почву под ногами и пытаясь зайти за порог. Туда будет приходить молодой Достоевский, знакомясь с городом, узнавая его, открывая, новые для себя, улицы, набережные и мосты. Возможно, пытаясь найти в столице поэтические следы Пушкина, вдыхая сырой воздух и воспоминания, которыми полон город. Улавливая гулкие отзвуки редких шагов в туманном безлюдье окраины Петербурга. По этим улицам ходят герои и Пушкина и Достоевского, не замечая друг друга, не сталкиваясь на узких набережных Фонтанки и каналов, разминувшись всего лишь на пару десятилетий.
И у Пушкина, и у Достоевского Петербург регулярно появляется на страницах не только как место действия, но и как действующее лицо. А еще, кажется, что обнаружить в пушкинских произведениях скромных обитателей не самых благополучных районов столицы чуть более привычно и менее странно, нежели чем у Достоевского встретить богатых и блистательных героев. Они есть, но вовсе не о них нам будет говорить Достоевский. И ощущение Петербурга как города столичного и блистательного присутствует в произведениях, но как будто номинально, размыто и необязательно. Взгляд словно скользит мимоходом, почти не замечая роскошные набережные и дворцы, колонны, арки, мосты. А вот чёрные лестницы, затхлые углы и сырые подвалы представлены во всех их, как правило, неприглядных подробностях.
Пожалуй, одним из наиболее ярких и подробных описаний роскоши парадного Петербурга у Достоевского стал фрагмент в его «самом петербургском романе» «Преступление и наказание». «...прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение.»
Обычно же упоминания блистательной составляющей столицы у Достоевского весьма редки. И несмотря на то, что его герои знают о существовании «Невской першпективы», даже бывают там, все это самые незначительные эпизоды, как в их жизнях, так и в самих произведениях. Хотя две судьбоносные встречи у Достоевского произошли как раз на Невском проспекте. Знакомство с Петрашевским состоялось у кафе на Невском, и последствия этой встречи для Достоевского были фатальны, крайне значимы для него и его творческой работы. И роковая, случайная встреча Рогожина с Настасьей Филипповной произошла там же, на главной улице Петербурга: «Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло.»
Герои Достоевского такими неожиданными вкраплениями оказываются в парадных частях Петербурга. Словно набегами, будто случайно и тут же «убираются восвояси», словно, сами удивившись своему появлению там. Мавра, служанка Наташи Ихменевой в романе «Униженные и оскорбленные», готовя обед для встречи важнейшего для своей хозяйки гостя, «за вином на Невский бегала...» Мечтатель из романа «Белые ночи», правда, прогуливается по Невскому. Что говорить, Макар Девушкин, один из главных героев первого произведения Достоевского, и тот «прошёлся по Невскому». Более того: «Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге.»
Даже самые маленькие и забитые обстоятельствами обитатели Петербурга, как один из героев петербургского фельетона Достоевского, могли оказаться на Невском, впрочем, там, наверное, «никогда не являлось существа покорнее и безответнее».
Сам Достоевский, прожив 28 лет в Петербурге, сменив в общей сложности, примерно 20 адресов, селился обычно в тех частях города, где мы привыкли заставать его героев: район Сенной площади и Владимирской, недалеко от Фонтанки, роты Измайловского полка. Никогда на Невском. В молодости снимал комнаты, обзаведясь семьей – квартиры. Жилье всегда арендовал, как и подавляющее число петербургских жителей того времени. Однажды жил совсем рядом с Исаакиевским собором, который, правда, тогда только строился и соседство, скорее было больше хлопотным, нежели приятным. Из этого дома Шиля, арестованного по делу Петрашевского автора, так недавно наделавшего шума и вызвавшего восторги, романа «Бедные люди», отвезли в самый центр Петербурга, на Заячий остров, в Петропавловскую крепость. Там, в казематах, Достоевский провел 8 месяцев.
Некоторые квартиры писатель, особенно в 70-е годы, снимал в домах, расположенных недалеко от Невского проспекта. И сам, порой не без удовольствия, гулял по главному проспекту Петербурга, делал покупки в Гостином Дворе, выступал в залах Городской Думы и Пассажа, посещал Александринский театр. Не бывая «при дворе» в классическом понимании и в отличие от Пушкина, Достоевский посещал Мраморный дворец, где читал на литературных вечерах свои произведения. Был знаком с членами императорской фамилии.
Весьма немногочисленные, вполне благополучные и отчасти великосветские герои Достоевского бывают на Елагином острове, в Пассаже на Невском, заходят в Летний сад. Но при этом Достоевский, словно следуя своим ранним убеждениям, подробно не будет описывать эти обстоятельства: «Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы. Боже! Об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги, по-моему, не нужно писать.»
Но он будет, будет писать о Петербурге, возможно, не столь знакомом читателю и весьма знакомом его непосредственным обитателям, большинство из которых и не подозревало, что их углы и черные лестницы складываются в удивительный мир романов Достоевского.
«Город бедный» все более решительно и явно, словно пробуждаясь от своей вечно унылой задумчивости, отряхиваясь и выпрямляясь, начнет выходить на страницы произведений «самого петербургского писателя».
У Пушкина эти скромные герои и их тихие уголки объяты гением его чистого и мощного слога. И читатель, восхищаясь красотой гениальной поэзии, словно переносит восторг от текста на убогую местность, сирые домишки, заброшенные углы, и эти картины начинают казаться по-своему очаровательными.
Проза Достоевского решительно и строго, без прикрас, выведет на первый план настоящий Петербург «бедных людей». Подробных, детальных описаний Петербурга в произведениях Достоевского найдется немного. Об одном из них речь уже шла. Обычно писатель дает нам возможность узнать город через его звуки и запахи, климатические особенности, настроения и привычки людей, его населяющих.
И в романе «Подросток», который в некоторых своих обстоятельствах и деталях перекликается с романом «Преступление и наказание» (уж, как минимум, место действия в обоих произведениях – Петербург) появится одно из самых точных, ярких и пронзительных описаний города:
«Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил. ...Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, – чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип – тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?” Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: “Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится,— и всё вдруг исчезнет”. Но я увлекся.»
Узнаваемо и четко, с тончайшими переплетениями отношения и чувств к столице.
Такие развернутые, подробные, проработанные описания города у Достоевского весьма немногочисленны. Обычно это размашистые, крупные, свободные мазки: Петроградская сторона, Выборгская, Острова, Сенная, Фонтанка. Город словно размыт. Он укутывается в туман и теряется в дымке, а летом в тяжелом мареве, когда буквально видишь, как плотный воздух движется от жара палящего солнца. Дома словно теряют очертания, чуть дрожат, покачиваются, но остаются на месте.
В ненастье постоянно меняется сила и направление ветра, а в реках и каналах уровень воды и ее ход. Все порой так неуловимо, призрачно и... прекрасно. Возможно, из-за того, что об «обширной и украшенной великолепными зданиями столице» Достоевский писал редко, сложилось впечатление, что он не любит Петербург. Да и на странице одной из своих записных книжек он как-то процитировав: «Люблю тебя, Петра творенье», рядом написал: «Виноват – не люблю». Разве не аргумент?!
Но именно в Петербурге он проведет полжизни. Постоянно уезжая (вольно или невольно), он стремится обратно. Годами, в силу обстоятельств, Достоевский работал вдали от «самого фантастического города на свете», но всегда с желанием возвращался. И причины, наверное, были не только творческие и деловые. Хотелось домой. Думается, хочется думать, что Достоевский полюбил Петербург. Так, как любят кого-то. Всего, целиком и полностью, с достоинствами и недостатками, особенностями темперамента и сложностями характера, с наводнениями и белыми ночами. Понял. Принял. И полюбил.
Кажется, что невозможно так писать, если не любишь. Так нельзя увидеть. Для Достоевского Петербург живой организм. Он «дулся» и хмурился. Его ноябрьские дожди нервируют, а белые ночи восхищают. Вода в его реках и каналах тёмно и вязко колышется среди сжавших ее набережных. Но даже их гранитный корсет не может сдержать всю мощь Невы, когда она в наводнение освобождается и захватывает почти весь город. Ветер неистовствует на площадях и в подворотнях. А зимой в трескучий мороз дым из многочисленных труб, поднимаясь вверх, выстраивает еще один прекрасный и фантастический город. Который, не имея возможности увидеть себя в воде, покрытой толщами льда, будет словно отражаться в небе.
Читая об этом в повести «Двойник» или в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» и восторженно вдохнув «ах!...» и задумавшись или застыв от впечатления, необходимо именно вспомнить, что надо продолжить дышать и читать дальше. Эти тексты завораживают и увлекают. И, кажется, что вот-вот услышишь скрип качающегося фонаря, звук распахнувшейся форточки и порыв ветра бросит в лицо пригоршню упругих дождевых капель. И ты очнешься, а этот город, увиденный Достоевским и любимый им, останется в тебе навсегда. Даже если сам никогда не окажешься в Петербурге.
Разве можно писать так, если не любишь?
Несомненно, на сложные взаимоотношения с Петербургом, от восторгов до самой резкой критики влияло и отношение Достоевского к личности созидателя города, Петра I, его реформам и их последствиям. И, пожалуй, можно говорить и о том, что свою роль сыграло и творчество А.С. Пушкина. В детстве и юности Достоевский зачитывался произведениями поэта, а к 15 годам многие из них знал наизусть. И, возможно, привык воспринимать город через Пушкина, сквозь его поэзию. Что говорить, даже герои Достоевского, положительные, которые очевидно симпатичны автору, Пушкина читают, о Пушкине говорят, знают, что Есть Пушкин. Пушкин во многом для Достоевского ориентир.
Естественно, со временем у Достоевского появится свое видение города, собственное к нему отношение. Но Пушкин останется.
Красота и призрачность Петербурга, блеск столицы и её темные углы, в конце концов – мечта и её крах. Или для кого-то даже невозможность мечты.
Чем Вася Шумков в своей трагедии не Пушкинский Евгений из поэмы «Медный всадник»? Абсолютно герой Достоевского, узнаваемый тип, созданный начинающим автором и сохранившийся до его самых последних произведений.
Пушкин знакомил Достоевского с Петербургом. А он, приехав сюда, начнет «странствовать» по Петербургу, ходить маршрутами пушкинских героев, а потом в петербургских пространствах селить своих. И тоскуя в Петербурге, иногда тяготясь им, Достоевский не утратит способности и желания его любить и им восхищаться. Неужели в самые трудные петербургские минуты в его голове издалека, из детства не могла восторженно и мгновенно пронестись пушкинская мысль:
«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия».
Они все трое – Петр I, Пушкин и Достоевский неразрывно связаны с Петербургом, а его история немыслима без них.
Петербург – почти невозможная и сбывшаяся мечта Петра I. Может быть, именно сила этой любви и восторг созидания коснулись гениального пера Пушкина и сострадательного сердца Достоевского.
**
(«Город пышный, город бедный», «самый фантастический город с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Одним словом – Петербург)
В прошлом 2024 году мы отметили 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В наступившем, 2025 году исполнилось 300 лет со дня смерти Петра I. В эти годы календарь не содержит в себе ни одной крупной и круглой даты, связанной с именем Фёдора Михайловича Достоевского. Но так сложилось судьба Петербурга, что говоря о нём, мы обязательно вспоминаем эти три имени: Пётр I, Пушкин, Достоевский.
В музее Ф.М. Достоевского в Петербурге в 2024 году к юбилейной Пушкинской дате была создана выставка «Город пышный город бедный...», которая дала возможность наглядно проследить взаимосвязь личного и творческого у Пушкина и Достоевского через призму «самого фантастического города на свете» – Петербурга.
Их разделяли 22 года – миг. С 1837 года – вечность. И Достоевский всю жизнь словно пытался сократить расстояние. Его первые 15 лет они были современниками. Только Пушкин, конечно, не мог даже и подозревать, что у Марьиной Рощи, на казённой квартире при больнице растёт мальчик, который упивается его гениальной и чистой поэзией. Впитывает живительную влагу, вбирает каждую каплю, в которой отражается весь океан Пушкинского таланта. Все его строфы, строки и рифмы, которые увидели свет, отпечатались в сердце сына врача Мариинской больницы для бедных и сохранились в нём на всю жизнь.
Приехав в Петербург пятнадцатилетним юношей, Достоевский начинает знакомиться с городом. Во многом, или в первую очередь, с Петербургом Пушкина. Один из первых адресов, который он хочет посетить в столице, в которой он в мае 1837 года окажется впервые, это Мойка 12, дом, где снимал свою последнюю квартиру Пушкин. Получив образование в столице, опубликовав здесь своё первое произведение, Достоевский несомненно будет писать о Петербурге. Их с Пушкиным взгляды на Петербург, как бы это, возможно, странно не прозвучало, гораздо более схожи и близки, чем мы привыкли думать.
Это Пушкин сумел, как обычно, гениально и ёмко выразить в нескольких словах всю красоту и мощь столицы: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид». Люблю. Видя Петербург глазами Пушкина, неужели отзывчивое мальчишеское сердце Федора Достоевского не билось восторженно и не любило, как сам поэт, этот, еще лично ему не знакомый город?
Мы привыкли воспринимать Петербург Пушкина как парадный, светский, блистательный и роскошный. А у Достоевского он всё-таки серый и сирый, неустроенный и неуютный.
Но оказывается, что и Пушкинский Петербург предстаёт не только в сиянии и блеске, да и у Достоевского он является не исключительно унылым и бедным. Хотя, несомненно, трудно забыть «громады стройные теснятся дворцов и башен...» и, оглядевшись, всмотреться попристальнее и за гениальной поэзией разглядеть скромный в некоторых своих уголках, ещё один, Пушкинский Петербург. Там «Домик в Коломне», где живёт бедная вдова с дочкой. Именно туда, в Коломну, где у родителей когда-то жил сам, устремляется Пушкин своими воспоминаниями: «Я живу теперь не там, но верною мечтою люблю летать, уснувши наяву, в Коломну, к Покрову...».
Именно в этих, погружённых в постоянную дрёму пространствах на окраине Петербурга, при малейшем намёке на наводнение, появляется вода, расквашивая почву под ногами и пытаясь зайти за порог. Туда будет приходить молодой Достоевский, знакомясь с городом, узнавая его, открывая, новые для себя, улицы, набережные и мосты. Возможно, пытаясь найти в столице поэтические следы Пушкина, вдыхая сырой воздух и воспоминания, которыми полон город. Улавливая гулкие отзвуки редких шагов в туманном безлюдье окраины Петербурга. По этим улицам ходят герои и Пушкина и Достоевского, не замечая друг друга, не сталкиваясь на узких набережных Фонтанки и каналов, разминувшись всего лишь на пару десятилетий.
И у Пушкина, и у Достоевского Петербург регулярно появляется на страницах не только как место действия, но и как действующее лицо. А еще, кажется, что обнаружить в пушкинских произведениях скромных обитателей не самых благополучных районов столицы чуть более привычно и менее странно, нежели чем у Достоевского встретить богатых и блистательных героев. Они есть, но вовсе не о них нам будет говорить Достоевский. И ощущение Петербурга как города столичного и блистательного присутствует в произведениях, но как будто номинально, размыто и необязательно. Взгляд словно скользит мимоходом, почти не замечая роскошные набережные и дворцы, колонны, арки, мосты. А вот чёрные лестницы, затхлые углы и сырые подвалы представлены во всех их, как правило, неприглядных подробностях.
Пожалуй, одним из наиболее ярких и подробных описаний роскоши парадного Петербурга у Достоевского стал фрагмент в его «самом петербургском романе» «Преступление и наказание». «...прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение.»
Обычно же упоминания блистательной составляющей столицы у Достоевского весьма редки. И несмотря на то, что его герои знают о существовании «Невской першпективы», даже бывают там, все это самые незначительные эпизоды, как в их жизнях, так и в самих произведениях. Хотя две судьбоносные встречи у Достоевского произошли как раз на Невском проспекте. Знакомство с Петрашевским состоялось у кафе на Невском, и последствия этой встречи для Достоевского были фатальны, крайне значимы для него и его творческой работы. И роковая, случайная встреча Рогожина с Настасьей Филипповной произошла там же, на главной улице Петербурга: «Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло.»
Герои Достоевского такими неожиданными вкраплениями оказываются в парадных частях Петербурга. Словно набегами, будто случайно и тут же «убираются восвояси», словно, сами удивившись своему появлению там. Мавра, служанка Наташи Ихменевой в романе «Униженные и оскорбленные», готовя обед для встречи важнейшего для своей хозяйки гостя, «за вином на Невский бегала...» Мечтатель из романа «Белые ночи», правда, прогуливается по Невскому. Что говорить, Макар Девушкин, один из главных героев первого произведения Достоевского, и тот «прошёлся по Невскому». Более того: «Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге.»
Даже самые маленькие и забитые обстоятельствами обитатели Петербурга, как один из героев петербургского фельетона Достоевского, могли оказаться на Невском, впрочем, там, наверное, «никогда не являлось существа покорнее и безответнее».
Сам Достоевский, прожив 28 лет в Петербурге, сменив в общей сложности, примерно 20 адресов, селился обычно в тех частях города, где мы привыкли заставать его героев: район Сенной площади и Владимирской, недалеко от Фонтанки, роты Измайловского полка. Никогда на Невском. В молодости снимал комнаты, обзаведясь семьей – квартиры. Жилье всегда арендовал, как и подавляющее число петербургских жителей того времени. Однажды жил совсем рядом с Исаакиевским собором, который, правда, тогда только строился и соседство, скорее было больше хлопотным, нежели приятным. Из этого дома Шиля, арестованного по делу Петрашевского автора, так недавно наделавшего шума и вызвавшего восторги, романа «Бедные люди», отвезли в самый центр Петербурга, на Заячий остров, в Петропавловскую крепость. Там, в казематах, Достоевский провел 8 месяцев.
Некоторые квартиры писатель, особенно в 70-е годы, снимал в домах, расположенных недалеко от Невского проспекта. И сам, порой не без удовольствия, гулял по главному проспекту Петербурга, делал покупки в Гостином Дворе, выступал в залах Городской Думы и Пассажа, посещал Александринский театр. Не бывая «при дворе» в классическом понимании и в отличие от Пушкина, Достоевский посещал Мраморный дворец, где читал на литературных вечерах свои произведения. Был знаком с членами императорской фамилии.
Весьма немногочисленные, вполне благополучные и отчасти великосветские герои Достоевского бывают на Елагином острове, в Пассаже на Невском, заходят в Летний сад. Но при этом Достоевский, словно следуя своим ранним убеждениям, подробно не будет описывать эти обстоятельства: «Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы. Боже! Об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги, по-моему, не нужно писать.»
Но он будет, будет писать о Петербурге, возможно, не столь знакомом читателю и весьма знакомом его непосредственным обитателям, большинство из которых и не подозревало, что их углы и черные лестницы складываются в удивительный мир романов Достоевского.
«Город бедный» все более решительно и явно, словно пробуждаясь от своей вечно унылой задумчивости, отряхиваясь и выпрямляясь, начнет выходить на страницы произведений «самого петербургского писателя».
У Пушкина эти скромные герои и их тихие уголки объяты гением его чистого и мощного слога. И читатель, восхищаясь красотой гениальной поэзии, словно переносит восторг от текста на убогую местность, сирые домишки, заброшенные углы, и эти картины начинают казаться по-своему очаровательными.
Проза Достоевского решительно и строго, без прикрас, выведет на первый план настоящий Петербург «бедных людей». Подробных, детальных описаний Петербурга в произведениях Достоевского найдется немного. Об одном из них речь уже шла. Обычно писатель дает нам возможность узнать город через его звуки и запахи, климатические особенности, настроения и привычки людей, его населяющих.
И в романе «Подросток», который в некоторых своих обстоятельствах и деталях перекликается с романом «Преступление и наказание» (уж, как минимум, место действия в обоих произведениях – Петербург) появится одно из самых точных, ярких и пронзительных описаний города:
«Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил. ...Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, – чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип – тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?” Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: “Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится,— и всё вдруг исчезнет”. Но я увлекся.»
Узнаваемо и четко, с тончайшими переплетениями отношения и чувств к столице.
Такие развернутые, подробные, проработанные описания города у Достоевского весьма немногочисленны. Обычно это размашистые, крупные, свободные мазки: Петроградская сторона, Выборгская, Острова, Сенная, Фонтанка. Город словно размыт. Он укутывается в туман и теряется в дымке, а летом в тяжелом мареве, когда буквально видишь, как плотный воздух движется от жара палящего солнца. Дома словно теряют очертания, чуть дрожат, покачиваются, но остаются на месте.
В ненастье постоянно меняется сила и направление ветра, а в реках и каналах уровень воды и ее ход. Все порой так неуловимо, призрачно и... прекрасно. Возможно, из-за того, что об «обширной и украшенной великолепными зданиями столице» Достоевский писал редко, сложилось впечатление, что он не любит Петербург. Да и на странице одной из своих записных книжек он как-то процитировав: «Люблю тебя, Петра творенье», рядом написал: «Виноват – не люблю». Разве не аргумент?!
Но именно в Петербурге он проведет полжизни. Постоянно уезжая (вольно или невольно), он стремится обратно. Годами, в силу обстоятельств, Достоевский работал вдали от «самого фантастического города на свете», но всегда с желанием возвращался. И причины, наверное, были не только творческие и деловые. Хотелось домой. Думается, хочется думать, что Достоевский полюбил Петербург. Так, как любят кого-то. Всего, целиком и полностью, с достоинствами и недостатками, особенностями темперамента и сложностями характера, с наводнениями и белыми ночами. Понял. Принял. И полюбил.
Кажется, что невозможно так писать, если не любишь. Так нельзя увидеть. Для Достоевского Петербург живой организм. Он «дулся» и хмурился. Его ноябрьские дожди нервируют, а белые ночи восхищают. Вода в его реках и каналах тёмно и вязко колышется среди сжавших ее набережных. Но даже их гранитный корсет не может сдержать всю мощь Невы, когда она в наводнение освобождается и захватывает почти весь город. Ветер неистовствует на площадях и в подворотнях. А зимой в трескучий мороз дым из многочисленных труб, поднимаясь вверх, выстраивает еще один прекрасный и фантастический город. Который, не имея возможности увидеть себя в воде, покрытой толщами льда, будет словно отражаться в небе.
Читая об этом в повести «Двойник» или в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» и восторженно вдохнув «ах!...» и задумавшись или застыв от впечатления, необходимо именно вспомнить, что надо продолжить дышать и читать дальше. Эти тексты завораживают и увлекают. И, кажется, что вот-вот услышишь скрип качающегося фонаря, звук распахнувшейся форточки и порыв ветра бросит в лицо пригоршню упругих дождевых капель. И ты очнешься, а этот город, увиденный Достоевским и любимый им, останется в тебе навсегда. Даже если сам никогда не окажешься в Петербурге.
Разве можно писать так, если не любишь?
Несомненно, на сложные взаимоотношения с Петербургом, от восторгов до самой резкой критики влияло и отношение Достоевского к личности созидателя города, Петра I, его реформам и их последствиям. И, пожалуй, можно говорить и о том, что свою роль сыграло и творчество А.С. Пушкина. В детстве и юности Достоевский зачитывался произведениями поэта, а к 15 годам многие из них знал наизусть. И, возможно, привык воспринимать город через Пушкина, сквозь его поэзию. Что говорить, даже герои Достоевского, положительные, которые очевидно симпатичны автору, Пушкина читают, о Пушкине говорят, знают, что Есть Пушкин. Пушкин во многом для Достоевского ориентир.
Естественно, со временем у Достоевского появится свое видение города, собственное к нему отношение. Но Пушкин останется.
Красота и призрачность Петербурга, блеск столицы и её темные углы, в конце концов – мечта и её крах. Или для кого-то даже невозможность мечты.
Чем Вася Шумков в своей трагедии не Пушкинский Евгений из поэмы «Медный всадник»? Абсолютно герой Достоевского, узнаваемый тип, созданный начинающим автором и сохранившийся до его самых последних произведений.
Пушкин знакомил Достоевского с Петербургом. А он, приехав сюда, начнет «странствовать» по Петербургу, ходить маршрутами пушкинских героев, а потом в петербургских пространствах селить своих. И тоскуя в Петербурге, иногда тяготясь им, Достоевский не утратит способности и желания его любить и им восхищаться. Неужели в самые трудные петербургские минуты в его голове издалека, из детства не могла восторженно и мгновенно пронестись пушкинская мысль:
«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия».
Они все трое – Петр I, Пушкин и Достоевский неразрывно связаны с Петербургом, а его история немыслима без них.
Петербург – почти невозможная и сбывшаяся мечта Петра I. Может быть, именно сила этой любви и восторг созидания коснулись гениального пера Пушкина и сострадательного сердца Достоевского.
**