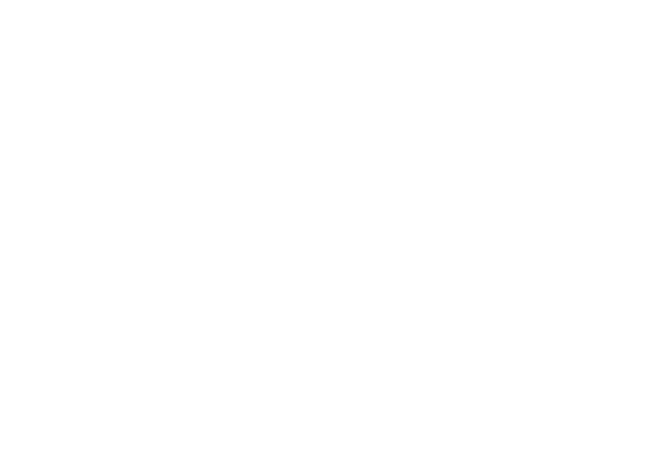Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
БЕСЕДЫ
Виктория Мусина-Пушкина
Триумф Виктории
«Мне есть кого благодарить и нет никого, на кого я могла бы обижаться. Но я живу с желанием изменить мир. А значит, идем дальше»(с)
...Невозможно сказать точное количество картин в России и за ее пределами, атрибуцию которых сделала искусствовед Маркова. Сотни. Тициан, Джорджо Вазари, Кавалер д’Арпино, Гвидо Рени, Бернардо Строцци, Бартоломео Манфреди, Джулио Романо, Томмазо Салини, Массимо Станционе, Валерио Кастелло, Лука Джордано, Карло Маджини и так далее без остановки. Мы с ней в прошлом году готовили одну презентацию по 2024 году: начали считать и в результате махнули рукой, вписав в слайд «более 20 картин».
Свою первую картину Маркова «распознала» еще студенткой, это был Бернардо Строцци и его «Святая Маргарита» в Смоленской художественной галерее: «Все произошло случайно. Я смотрела на картину и размышляла о Строцци, а потом увидела на этикетке другое имя. Рассказала об этом Михаилу Яковлевичу Либману и выяснилось, что это действительно Строцци. А однажды – я еще только писала диплом в университете - мы с мужем поехали в Останкино, дворец тогда был открыт, вхожу в картинный зал и вижу 4 натюрморта. Я сразу поняла, кто их написал. Кого же было мое удивление, когда я прочитала другие имена. Стояла и думала: «Как легко, оказывается, можно делать открытия!» Я сказала об этом хранителю музея и очень скоро опубликовала статью в журнале «Музей» про эти атрибуции».
Одна из самых примечательных историй связана с натюрмортами Карло Маджини из Моршанского историко-художественного музея: «Я им говорю – какой у вас Маджини замечательный висит!» А хранители с большим подозрительнием на меня посмотрели: мол, вообще-то, все знают, что итальянцы не писали интерьеры кухонь, яйца, лук, помидоры, бутылки зеленые. Я им говорю – вы снимите один натюрморт и посмотрите, там есть подпись художника. Теперь они на каждой экскурсии рассказывают про атрибуцию Марковой, страшно гордятся находками».
Но моя любимая история – про Тициана. Сначала Виктории Эммануиловне позвонил коллекционер, который приобрел на аукционе «Венеру и Адониса» как «копию оригинала из Музея Прадо». И попросил приехать и посмотреть на картину надеясь на то, что это все-таки не копия, а «школа Тициана»: «Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять – это сам Тициан. Я никогда не увлекалась ни Тицианом, ни Венецией, но перепутать было невозможно. Я отправила нашу московскую картину на реставрацию в Венецию и, спустя время, приехала с венецианским реставратором в Мадрид, чтобы посмотреть на их версию «Венеры и Адониса», которая, в свою очередь, уже вернулась из реставрации. В Прадо мне показали исследование, где на фотографии картины в инфракрасных лучах были ясно видны фрагменты предварительного рисунка, буквально - рисунок по кальке, бесспорное доказательство того, что мадридская картина написана не Тицианом, а его учеником. Тогдашний заместитель директора Музея Прадо по научной работе Габриэле Финальди, возглавляющий сегодня Национальную галерею в Лондоне, сказал мне: «Ты победила, у вас – оригинал!» Свидетелем триумфа стала Марина Лошак, которая вместе с Марковой находилась в Мадриде.
Я спрашиваю Викторию Эммануиловну, на что это похоже, иметь такой дар? И слышу совсем непонятные объяснения: «Эта работа похожа на разгадывание ребуса». Или: «Можно сравнить с музыкальным слухом, который либо есть, либо нет. И сколько его ни развивай, он не станет таким, как у человека, рожденного с этим даром. Также и со зрением. Нужно иметь особый «глаз», остроту зрения». Или так: «Человек рождается с этим инструментом. Вот в балетные классы не всех же детей берут, преподаватели сразу видят – есть ли способности у ребенка». Или даже так: «Атрибуция – это самое простое для меня. Я не прилагаю к этому особых усилий. Некоторым кажется, что это какая-то магия, но это не магия. Некая данность, которую невозможно объяснить. Достаточного одного взгляда - ты просто знаешь и все. Это совсем не моя заслуга, что-то свыше. Мне остается только благодарить Бога».
«Нужно правильно распоряжаться своими талантами, - говорит Виктория Эммануиловна. – Талантами, совестью, свободой – одним словом, своей жизнью. В науке совсем необязательно иметь талант к определению авторства, важно найти то, к чему есть склонность. Потому что наша профессия предполагает совершенно разные направления. Например, архивы или иконография (описание и классификация тем, сюжетов, мотивов, персонажей – авт.), общая проблематика искусства. Большинство искусствоведов не имеют «глаза», но они умеют делать другие важные вещи. И люди в своих сферах достигают больших высот». ...
... В 1984 году Виктория Эммануиловна сделала выставку своих атрибуций – 96 картин, хотя в действительности их было много больше. Из 30 музеев СССР - от Риги до Владивостока. Для воплощения этой идеи, Маркова, волнуясь, что Антонова не даст на выставку добро, пошла на хитрость и обратилась в Министерство культуры СССР к начальнику Управления музеев Николаю Нерсесову: «Николай Яковлевич, в Третьяковке делают выставки атрибуций, а я мечтаю сделать такую в ГМИИ, выставку своих атрибуций. Поручите мне эту работу, пожалуйста, напишите в Антоновой письмо с предложением собрать экспозицию». Так состоялась выставка «Картины итальянских мастеров XIV-XVIII веков из музеев СССР». В нее Маркова вписала огромный щит, где проецировались рентгенограммы с фрагментами картин, на которых видны следы реставрации, утраты, авторские изменения: «Это смотрелось очень необычно. Мой посыл состоял в том, что искусствоведы должны понимать картины, как они написаны и состояние их сохранности не хуже реставраторов».
Выставку посетил известный итальянский искусствовед, художественный критик Чезаре Бранди, и написал рецензию в газете «Corriere della Sera»: «Совершенно непонятно, кто из советских специалистов мог сделать подобное, мы знаем только одного человека такого уровня, Лазарев». Виктория Эммануиловна до сих пор хранит эту вырезку: «Я когда прочитала статью, хотела кричать: «Это я! Это я сделала!» Драма, понимаете? Вы делаете что-то в СССР, а там, в Европе, коллеги этого не знают».
В музее до сих пор вспоминают, как Антонова потом на каждом собрании укоряла Маркову за то, что та не сделала к выставке каталог. «А как его сделать? Без изображений? Ведь вещи невозможно было сфотографировать до открытия выставки. Но каталог мы все-таки сделали – спустя два года». Начала она его готовить накануне открытия экспозиции, фактически – в тайне ото всех: когда картины со всего СССР приехали в музей, она взяла в сообщники главного хранителя ГМИИ и упросила подписать разрешение на визит знакомого фотографа, которому заплатила свои собственные деньги: «Мы сами, без рабочих, таскали и двигали картины для съемки, а рамы у них были тяжеленные. К нам все время подходили и говорили, что пора заканчивать, время позднее. Но я отмахивалась и вымаливала «еще 5 минут». После я составила каталог с красивыми цветными воспроизведениями и стала думать, как его опубликовать. Я позвонила завредакции издательства «Советский художник» Юрию Овсянникову; он выпускал журналы «Советское искусствознание» и «Музей». И что же вы думаете? Он его сделал в своем издательстве! Тираж был 30 000 экземпляров, вообразите себе. Сейчас 3 000 экземпляров – это большая редкость. На Арбате за нашим каталогом стояла очередь, его продавали в магазине «Изобразительное искусство» рядом с «Прагой». ...
***
Виктория Эммануиловна Маркова, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ, награждена Орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента Российской Федерации и двумя орденами Итальянской республики «Звезда Италии» в степени кавалера и командора. Хранитель собрания итальянской живописи Пушкинского музея. Преподавала в России и за рубежом. Входит в составы редколлегий журнала Rivista d’Arte и серии монографий Le voci del museo, а также научного комитета итальянского журнала About Art online. Член Учёного совета ГМИИ. Автор более 250 научных публикаций, многие из которых увидели свет в зарубежных периодических изданиях. Внесла большой вклад в изучение произведений итальянской живописи в собраниях региональных музеев России: сотни картин получили авторство и стали достоянием научного сообщества. Ведет активную выставочную деятельность в качестве куратора, под ее руководством состоялись десятки важнейших выставок и проектов.
Сложно сказать, как сложилась бы судьба Виктории Марковой, но в одном я уверена: если бы она не стала известным искусствоведом, мы знали бы ее как историка. Или переводчика. Или киноведа. Я даже не сомневаюсь в том, что, если бы она продолжила заниматься музыкой, мы бы знали ее как пианистку. Для людей с таким темпераментом и такой внутренней силы область применения талантов не имеет никакого значения. Но удивительно здесь не это. Удивительно здесь то, что сама Виктория Эммануиловна всячески пресекает попытки говорить в сослагательном наклонении: «С самого начала я хотела заниматься Италией».
Вообще она готовилась к профессии переводчика: французский и английский. Да, как и все девочки из интеллигентных московский семей, она занималась музыкой. Но инструмент увлекал ее меньше всего. Гораздо больший интерес школьница Вика испытывала к самой музыке (кто знает, кто знает, не потеряли ли мы музыковеда): после школы она ходила в кружок при музее Скрябина («Нам очень много и интересно рассказывали о музыке ХХ века»), а затем в расписание добавился кружок при Консерватории, где состоялось глубокое погружение в классическую музыку. «Как-то мы с подругой после занятий в кружке зашли в Большой зал, на концерт. Билетов у нас не было, но концерт мы очень хотели послушать. В тот вечер исполняли «Болеро» Равеля. Конечно, то, что мы сделали, можно назвать настоящим хулиганством: мы спрятались на самом верхнем амфитеатре и просидели там до момента, как зал стал наполняться публикой». Спустя много лет судьба сведет ее с великими итальянцами (о Нино Рота и Валерио Дзурлини она может говорить часами, а рассказ о том, как она подрабатывала личным переводчиком Дзурлини на Московском кинофестивале, достоин отдельного текста. И еще один эпизод, достойный рассказа: «Однажды я пришла на показ «Три шага в бреду», который делали Феллини, Роже Вадим и Луи Маль. Был сильный дождь, переводчик не смог приехать. Меня усадили на синхрон»). Но пока Вика школьница. Домашняя библиотека, немецкое фортепиано в комнате, культ музыки дома (Верди, Пуччини, бельканто, итальянская опера), английский с пяти лет, французский. Итальянский, которым она владеет, был последним, уже в последние годы университета.
Не так давно Кончаловский делал с ней фильм-интервью, где Маркова вспоминала, что первый интерес к искусству у нее появился при рассматривании французских гравюр XIX века из домашней библиотеки. Я спрашиваю ее о семье: кто был отец, чем занималась мама, откуда дома такая библиотека? Виктория Эммануиловна рассказывает очень личные истории жизни бабушек, дедушек и родителей. С огромным теплом говорит об отце: «Папа уехал на фронт в очень юном возрасте, был начальником танковой бригады. После войны он ушел в министерство тяжелого машиностроения, начинал с помощника министра, а потом получил образование и дослужился до начальника управления. У него была очень светлая голова. Помню, он много работал, часто ночью – времена были сталинские. Мама моя хотела быть музыкантом, но жизнь сложилась иначе: она закончила военный институт иностранных языков, работала в министерстве внешней торговли. Я знаю, ее хотели отправить во Францию, но она была категорически против: «Как это, на Запад? В логово врага?» Да, были такие послевоенные времена!»
Пушкинский музей
Но если область интереса школьница Вика нашла у себя дома, в домашней библиотеке, то место ей невольно показала мама. В 1955 году она привела дочь в ГМИИ им. А.С.Пушкина на выставку Дрезденской галереи. Воспоминания о ней Виктория Эммануиловна сохранила на всю жизнь: «Поэтому, когда я пошла за компанию с подружкой записываться в Клуб Юных Искусствоведов при ГМИИ, я отчасти делала это и «по следам» той выставки. Сама бы я точно туда не пошла, мне просто это не приходило в голову. Подружка моя очень быстро покинула кружок, а я осталась». Игорь Наумович Голомшток, советский (а впоследствии британский) историк мирового искусства, выпустивший первую в СССР книгу о Пикассо в соавторстве с литературоведом и диссидентом Андреем Синявским, открыл школьнице то, чему она посвятит всю свою жизнь: «Его занятия в Клубе Юных Искусствоведов были для нас, подростков еще в сущности, настолько увлекательны, что к окончанию школы я уже совершенно точно знала, куда хочу поступать и где потом работать»...
***
полный текст интервью можно будет прочесть в выходящем номере альманаха "Слова и смыслы" 2026
Фото из архива Виктории Мусиной-Пушкиной ©
Виктория Мусина-Пушкина, журналист