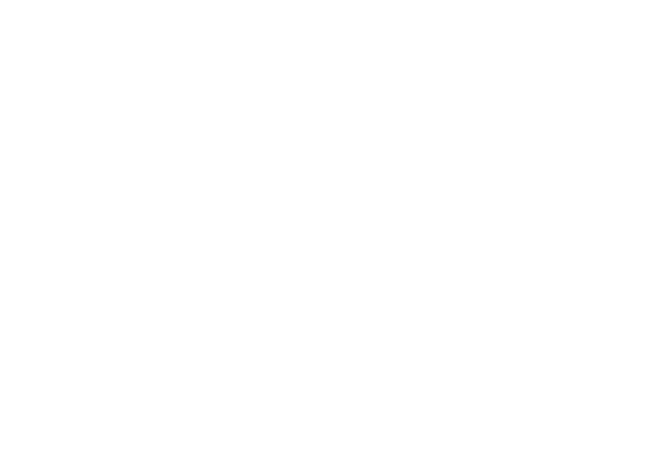Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Когда наступает время
Причащённые осени…
Никаких претензий, Господи, что Ты, что Ты!
Ну, надежды разве что да фантазии.
Садись, не побрезгуй: у меня тут хлебушек, водка, шпроты.
И картошка. Правда, сырая. На балконе, в тазике.
Да не пью я, Господи, бог с Тобою!
(ой потешно вышло, словно ты сам нá сам, Господи)…
Я вот стопочку, под хлебушек — и закрою!
И не стану ныть: у тебя и так проблем с нами воз, поди!
Ох и сложные мы: всё у тебя что-то просим, просим.
Ты нам — нате, держите, мол, — яркие листья, небо эмалевое!..
Ты, поди, всё лето придумывал эту осень —
А мы опять у тебя лето вымаливаем…
А Бог знает, что кому-то нужны его вечера, расплывчато-акварелевые,
кому-то дороги утра, пряные, терпкие, словно чай анисовый.
И лишь порой, отчаявшись, Он в свой мир холодами выстреливает,
и к ногам причащённых снисходит, снисходит листьями…
Когда наступает время
Когда наступало время тоски и вечера,
он, за день своё положенное избегав,
утюжил рубашки, бережно вешал на плечики;
все белые-белые, белей твоего снега.
Ходил, любовался. Мурлыкал под нос мелодии.
Следил, чтобы всё в порядке — любая малость:
ему так казалось, что он не один. И, вроде бы,
рубашкам тоже так нравилось и казалось.
Вздыхал, что его чудеса зарастают былями,
что люди свои проблемы решают «сами»...
Рубашки, впуская людей, шелестели крыльями.
Хранили, спасали...
Улиточка
Мне поведал старик-бедолага,
Как тропа превращается в путь.
В. Д.
Время на кухне событий заварит кашу,
плотную: ложку воткнёшь — и застынет ложка...
Прячься, улиточка, в домик: снаружи страшно.
Ты ведь не веришь, что всё это понарошку?
Выкрикнешь: «Чур меня!» — и сокрыта чуром!
Домик всегда с тобой, как вторая кожа.
Правда, реальность грозит обернуться чудом,
если ты домик покинешь и уничтожишь...
Ложку, другую, третью... Почуешь, кто ты,
если отдашь за это свои полцарства!
Знаешь ли ты, как путями становятся тропы?
Просто учись терять — и тогда воздастся.
Четвёртый Рим
Грустный город спит, распластав дороги и провода,
ни пароль от грусти, ни её секрет никому не выдав...
Помести этот город, однажды и навсегда,
в зеркало заднего вида.
Зачерпни — на дорожку — немного его реки;
в ней вода мертва, но она от бед, говорили, лечит.
Зачерпни — и выпей. Не пакуй походные рюкзаки:
будут свободны плечи...
Сохрани в себе эти спящие улочки и дома,
что черны под слоями ночи, словно обувь под гуталином.
Сохрани, чтобы вспомнить, когда загрустишь сама:
клин вышибают клином.
И когда в душе ярой жизнью заблагоухает сад,
и любой сюжет станет важным, неповторимым,
ты увидишь, что тихий город, всеми другими над,
выжил Четвёртым Римом.
Не навсегда
Она верит:
Летать — это очень просто, главное — окрылиться.
Какое дело пространству, что ты не птица?
Время вон тоже не птица, а летит, летит же!
Марк небесный свод тушует немного ниже:
всё безопасней в тенётах его качаться...
— Марк, а ты мог бы нарисовать счастье,
дерзкое, бесшабашное!?
Над замыслом покумекав,
мог бы, говорит Марк, и рисует летящего человека.
Она смеётся:
Держи меня за руку, как за нитку воздушный шарик!
Здесь всюду небо, и ветер шершавый шарит,
а солнце к закату стынет и будто вянет...
И мы парим — над розовыми церквями,
зелёными кронами, домиками, скрипачами!
Она вздыхает:
Марк, а ты мог бы нарисовать отчаяние,
лёгкое, как воздух, пронзительное, как булыжник — в реку?
Мог бы, говорит Марк, и рисует
летящего
человека...
Она плачет:
Марк, но ведь летать — это счастье, да?!!!
Да, говорит Марк. Если не навсегда...
Что осталось на трубе...
Осень как осень: холодно, разноцветно, ветрено и т.д.
Горе как горе: жгуче и однотонно (черно, как сажа).
А и Б по ночам в обнимку сидят на своей трубе,
а днём их почти не видно: подыгрывают пейзажу.
Я ночью слышу, как они хихикают, шепчутся,
считают звёзды и фонари.
А чего сидят — ведь известно, что А упало, а Б
пропало?!
Ты подходишь ко мне, кричащей во сне и
вздрагивающей, И
сочиняешь тепло любви, камина и одеяла…
* *
Алёна Асенчик (Беларусь)

ПОЭЗИЯ