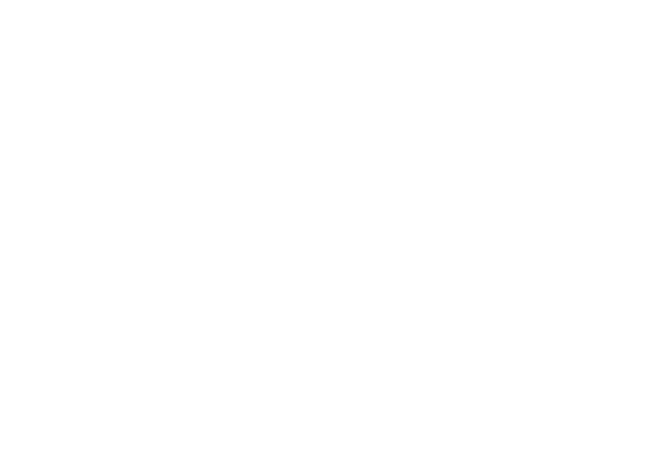Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Наталья Новохатняя - поэт, прозаик, эссеист
МЕЖДУСТРОЧИЕ
Не то чтоб эта мысль меня грузила,
Вокруг полным-полно других забот,
Но знаю точно: здесь не пригодилась,
И вдалеке меня никто не ждёт.
В одну страну с названьем Междустрочие
Сбегаю от сомнений и тревог.
Как сладостно над словом кровоточить
И воскресать (естественный итог).
С пером в руке задумчива Татьяна,
Всё грезит о несбыточной любви.
Въезжает поезд в полотно романа,
В вагон его тихонечко войди.
И стук колес, и ритм чужого слова,
Где запятой звучит то плач, то смех…
Устраивайся всяк, лишённый крова.
Как видишь, мест достаточно для всех.
***
Осень приходит всегда незаметно.
Листья с деревьев слетают неслышно.
Разнообразны следы и приметы…
Лето, твой срок окончательно вышел.
Птицы, кружа над желтеющим морем,
Что-то курлыкнут ему на прощание.
И покидают родные просторы,
Новую встречу не обещая.
Люди, как птицы… уходят, уходят.
Вот уже лица помнятся смутно.
Что ж, перемены готовит природа
Ежеминутно, ежесекундно.
Ей расставаний прощальная горечь –
Просто отметка в назначенном списке.
Ты и сама однажды уходишь
Из чьей-то жизни, без слов, по-английски.
РОЗА
Среди увяданья всеобщего роза
казалась для памяти слабым приютом,
и что вдруг припомнились летние грозы,
приметы рождения ясного утра,
цветенье ирисов, гортензий и лилий –
да мало ли было их, тонких и нежных?..
Увы, оказались неравными силы,
ведь осень как море – безбрежна, безбрежна.
Лишь розу, дивясь на прямую осанку –
простите, ушедшие в Лету подруги! –
ветра пощадили, возможно, в запарке,
не проще ли сбыть её на руки вьюге,
и та уж конечно… Мне не насмотреться.
Молчат лепестки, как минувшие годы,
а цвет алой каплей из самого сердца
блистательной и беспощадной природы.
КИШИНЕВ
Дома белеют, отутюжены,
вкрапленья золота – кресты,
и с прошлым он теперь не дружит,
и в будущее жжёт мосты.
Гостей встречает мамалыгою,
стаканом доброго вина,
а для своих в кармане фига,
и не одна.
О город, что когда-то под руку
с великим Пушкиным гулял,
твои осваивают отроки
все елисейские поля.
Плодится племя перелётное,
голь перекатная легка.
Холмы, холмы…
Трамплин для взлёта.
И мертвая петля – река.
30-е
В переулке Фонтанном, в кофейне Манькова
пререкались румынское, русское слово.
Под ликеры и кофе, под ватрушки и булки
всё подробно обсудит народ в переулке.
Про наряды и шляпки, про болезни и войны…
Разговор бессарабский порой беспокойный.
Новостями наевшись, кишиневские дамы
в Сад Публичный под руку идут с господами.
Оглушите нас форте, городские оркестры,
Чтоб тоске и печали здесь не было места.
Погляди – наша Роза кружит тур с адвокатом!
И стучали, тик-так, стрелки на циферблате…
В переулке Фонтанном, в кофейне Манькова
вечера коротали межвоенные годы.
***
Багрец и охра, пурпур и шафран.
Октябрь уже палит из всех орудий.
И гроздью виноградною на блюдо
Прилёг на карту времени мой край.
По ягоде щипали там и тут
Свои, чужие, грозди не жалея.
Судьба бредёт извилистой аллеей:
Каштан и липа, тополь, ива, дуб…
У горизонта линия холмов –
В бессилии опущенные плечи.
Их синевой окутывает вечер
И не находит подходящих слов,
Хоть знает он про боль фантомных ран.
И всё же, воспарив над днём вчерашним,
становятся насыщенней и краше
багрец и охра, пурпур и шафран.
МАМАЛЫГА
С тарелки глядит золотистым зрачком.
Увидеть в её немигающем взгляде,
Как стебель гигантский в зелёном наряде
По-птичьи забавно трясёт хохолком.
А может, село у подножья холма,
А может, церквушку – сияет невестой…
Хозяйкой любовно замешано тесто –
Плацинды? От запаха сходишь с ума!
Тягучая дойна, и осень, и снег,
Сметанный сугроб на упитанной горке…
Следы преступления на подбородке –
Исчезла до крошки волшебная снедь.
Вино, словно Лета, по горлу течёт.
И вестник богов из невидимой дали,
Изысканно-томный, изящно-крахмальный…
Но вредной капустницей выпорхнет счёт.
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТОЛСТОГО
«Война и мир». Французский текст и сноски.
От блеска бала кругом голова,
с Ростовой вместе я едва жива,
но лишь одну на вальс зовёт Болконский.
Ночник покорно пялится во тьму.
Страница марширует за страницей:
бездонно небо над Аустерлицем,
и не спасти горящую Москву,
с княжною Марьей впору помолиться…
Ночник вконец умаялся, погас.
На паузе герои и сюжет.
Печально с неба смотрит лунный глаз:
ни мира, ни любви в помине нет.
***
Уснёшь – и кровать обернётся гондолой.
Кричат с высоты беспокойные чайки.
В январской Венеции стыло и голо,
здесь волны, как странники, в двери стучатся
всё громче, всё выше. И тонешь, как в море,
в бредущих сквозь время сырых анфиладах.
Спасение будет внезапным и скорым:
на башне часы объявили пощаду.
И вот ты в порту. Пересчитывать мачты,
как будто касаться рукой горизонта.
Что прошлое – море услужливо прячет
в подводных глубинах былые невзгоды.
Как в каменном кружеве длани каналов,
палаццо сверкают, что кольца на пальцах.
А горсть медяков… ты их все разбросала.
Венеция, мне бы навеки остаться!
Солёною влагой пропитаны стены,
знакомы с прощаньями не понаслышке.
Сливаясь с рассветом, напев гондольера
звучит всё печальней, всё тише.
РИГОЛЕТТО
Люстра будто звездный шар повисла.
Золото колон, багрянец кресел.
Словно губы сомкнуты кулисы.
Скрипка взвизгнет как-то неуместно.
Будто бы в конструкторе детали
Не сложились в цельную картину.
На вопрос извечный «что вначале»
Три звонка откликнутся рутинно.
Всё придет в движение мгновенно,
Дирижерской палочке подвластно.
Что ты там страдаешь, Риголетто,
Будто мало на земле несчастных.
Группа размалеванных паяцев
Тщательно разыгрывала драму.
А судьба, плетя узор на пяльцах,
Всех подряд бичует, старых, малых.
Джильда безупречною голубкой
Нежно проворкует на прощанье.
Зрители поплачут и забудут,
Собственные пестуя печали.
Что в сухом остатке, может, ноты
На страницах старого клавира?..
А за дирижерским пультом кто-то
Снова правит оперой ли, миром.
***
Бездонная, безбрежная,
кромешная зима,
увядшие подснежники –
дома, дома, дома.
Как долго окнам стылым
выглядывать апрель...
По-старчески уныло
сомкнула губы дверь.
Лишь редкий стук синкопами
взрывал пространства ткань.
И перепонки лопались
от горстки букв: февраль!
Но воробьиной стайкой,
но бабочкой цветной
сны, фантики измятые,
всё грезили весной…
МАРТ
Март словно хозяин радушный
небесной плеснет синевы,
и в первой попавшейся луже
растают морозные сны.
По веткам налеплены, почки
пьют жадно живительный сок,
заботной наседкой хлопочет
жизнь, пестуя каждый росток.
Глядят синеоко пролески
на щедро струящийся свет,
и птица, чей род неизвестен,
легко подтвердит: смерти нет.
**
МЕЖДУСТРОЧИЕ
Не то чтоб эта мысль меня грузила,
Вокруг полным-полно других забот,
Но знаю точно: здесь не пригодилась,
И вдалеке меня никто не ждёт.
В одну страну с названьем Междустрочие
Сбегаю от сомнений и тревог.
Как сладостно над словом кровоточить
И воскресать (естественный итог).
С пером в руке задумчива Татьяна,
Всё грезит о несбыточной любви.
Въезжает поезд в полотно романа,
В вагон его тихонечко войди.
И стук колес, и ритм чужого слова,
Где запятой звучит то плач, то смех…
Устраивайся всяк, лишённый крова.
Как видишь, мест достаточно для всех.
***
Осень приходит всегда незаметно.
Листья с деревьев слетают неслышно.
Разнообразны следы и приметы…
Лето, твой срок окончательно вышел.
Птицы, кружа над желтеющим морем,
Что-то курлыкнут ему на прощание.
И покидают родные просторы,
Новую встречу не обещая.
Люди, как птицы… уходят, уходят.
Вот уже лица помнятся смутно.
Что ж, перемены готовит природа
Ежеминутно, ежесекундно.
Ей расставаний прощальная горечь –
Просто отметка в назначенном списке.
Ты и сама однажды уходишь
Из чьей-то жизни, без слов, по-английски.
РОЗА
Среди увяданья всеобщего роза
казалась для памяти слабым приютом,
и что вдруг припомнились летние грозы,
приметы рождения ясного утра,
цветенье ирисов, гортензий и лилий –
да мало ли было их, тонких и нежных?..
Увы, оказались неравными силы,
ведь осень как море – безбрежна, безбрежна.
Лишь розу, дивясь на прямую осанку –
простите, ушедшие в Лету подруги! –
ветра пощадили, возможно, в запарке,
не проще ли сбыть её на руки вьюге,
и та уж конечно… Мне не насмотреться.
Молчат лепестки, как минувшие годы,
а цвет алой каплей из самого сердца
блистательной и беспощадной природы.
КИШИНЕВ
Дома белеют, отутюжены,
вкрапленья золота – кресты,
и с прошлым он теперь не дружит,
и в будущее жжёт мосты.
Гостей встречает мамалыгою,
стаканом доброго вина,
а для своих в кармане фига,
и не одна.
О город, что когда-то под руку
с великим Пушкиным гулял,
твои осваивают отроки
все елисейские поля.
Плодится племя перелётное,
голь перекатная легка.
Холмы, холмы…
Трамплин для взлёта.
И мертвая петля – река.
30-е
В переулке Фонтанном, в кофейне Манькова
пререкались румынское, русское слово.
Под ликеры и кофе, под ватрушки и булки
всё подробно обсудит народ в переулке.
Про наряды и шляпки, про болезни и войны…
Разговор бессарабский порой беспокойный.
Новостями наевшись, кишиневские дамы
в Сад Публичный под руку идут с господами.
Оглушите нас форте, городские оркестры,
Чтоб тоске и печали здесь не было места.
Погляди – наша Роза кружит тур с адвокатом!
И стучали, тик-так, стрелки на циферблате…
В переулке Фонтанном, в кофейне Манькова
вечера коротали межвоенные годы.
***
Багрец и охра, пурпур и шафран.
Октябрь уже палит из всех орудий.
И гроздью виноградною на блюдо
Прилёг на карту времени мой край.
По ягоде щипали там и тут
Свои, чужие, грозди не жалея.
Судьба бредёт извилистой аллеей:
Каштан и липа, тополь, ива, дуб…
У горизонта линия холмов –
В бессилии опущенные плечи.
Их синевой окутывает вечер
И не находит подходящих слов,
Хоть знает он про боль фантомных ран.
И всё же, воспарив над днём вчерашним,
становятся насыщенней и краше
багрец и охра, пурпур и шафран.
МАМАЛЫГА
С тарелки глядит золотистым зрачком.
Увидеть в её немигающем взгляде,
Как стебель гигантский в зелёном наряде
По-птичьи забавно трясёт хохолком.
А может, село у подножья холма,
А может, церквушку – сияет невестой…
Хозяйкой любовно замешано тесто –
Плацинды? От запаха сходишь с ума!
Тягучая дойна, и осень, и снег,
Сметанный сугроб на упитанной горке…
Следы преступления на подбородке –
Исчезла до крошки волшебная снедь.
Вино, словно Лета, по горлу течёт.
И вестник богов из невидимой дали,
Изысканно-томный, изящно-крахмальный…
Но вредной капустницей выпорхнет счёт.
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТОЛСТОГО
«Война и мир». Французский текст и сноски.
От блеска бала кругом голова,
с Ростовой вместе я едва жива,
но лишь одну на вальс зовёт Болконский.
Ночник покорно пялится во тьму.
Страница марширует за страницей:
бездонно небо над Аустерлицем,
и не спасти горящую Москву,
с княжною Марьей впору помолиться…
Ночник вконец умаялся, погас.
На паузе герои и сюжет.
Печально с неба смотрит лунный глаз:
ни мира, ни любви в помине нет.
***
Уснёшь – и кровать обернётся гондолой.
Кричат с высоты беспокойные чайки.
В январской Венеции стыло и голо,
здесь волны, как странники, в двери стучатся
всё громче, всё выше. И тонешь, как в море,
в бредущих сквозь время сырых анфиладах.
Спасение будет внезапным и скорым:
на башне часы объявили пощаду.
И вот ты в порту. Пересчитывать мачты,
как будто касаться рукой горизонта.
Что прошлое – море услужливо прячет
в подводных глубинах былые невзгоды.
Как в каменном кружеве длани каналов,
палаццо сверкают, что кольца на пальцах.
А горсть медяков… ты их все разбросала.
Венеция, мне бы навеки остаться!
Солёною влагой пропитаны стены,
знакомы с прощаньями не понаслышке.
Сливаясь с рассветом, напев гондольера
звучит всё печальней, всё тише.
РИГОЛЕТТО
Люстра будто звездный шар повисла.
Золото колон, багрянец кресел.
Словно губы сомкнуты кулисы.
Скрипка взвизгнет как-то неуместно.
Будто бы в конструкторе детали
Не сложились в цельную картину.
На вопрос извечный «что вначале»
Три звонка откликнутся рутинно.
Всё придет в движение мгновенно,
Дирижерской палочке подвластно.
Что ты там страдаешь, Риголетто,
Будто мало на земле несчастных.
Группа размалеванных паяцев
Тщательно разыгрывала драму.
А судьба, плетя узор на пяльцах,
Всех подряд бичует, старых, малых.
Джильда безупречною голубкой
Нежно проворкует на прощанье.
Зрители поплачут и забудут,
Собственные пестуя печали.
Что в сухом остатке, может, ноты
На страницах старого клавира?..
А за дирижерским пультом кто-то
Снова правит оперой ли, миром.
***
Бездонная, безбрежная,
кромешная зима,
увядшие подснежники –
дома, дома, дома.
Как долго окнам стылым
выглядывать апрель...
По-старчески уныло
сомкнула губы дверь.
Лишь редкий стук синкопами
взрывал пространства ткань.
И перепонки лопались
от горстки букв: февраль!
Но воробьиной стайкой,
но бабочкой цветной
сны, фантики измятые,
всё грезили весной…
МАРТ
Март словно хозяин радушный
небесной плеснет синевы,
и в первой попавшейся луже
растают морозные сны.
По веткам налеплены, почки
пьют жадно живительный сок,
заботной наседкой хлопочет
жизнь, пестуя каждый росток.
Глядят синеоко пролески
на щедро струящийся свет,
и птица, чей род неизвестен,
легко подтвердит: смерти нет.
**
Наталья Новохатняя (республика Молдова, Кишинёв)

ПОЭЗИЯ