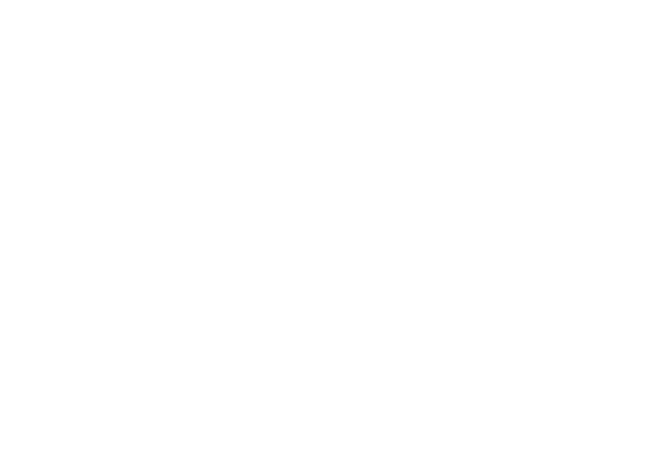Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Поэты русского Севера
Есть далеко не безосновательное предположение, что Республика Коми по количеству поэтов на душу населения занимает первое место в мире. Прозаиков тоже хватает — и с российской известностью у некоторых всё в порядке, но поэты мне роднее, поэтому я на них и остановлю свое внимание. Не на всех. Только на тех, кто мне ближе. Заранее извиняюсь перед всеми достойными, их много, я о них не забыл, они хорошие поэты, но сказать обо всех, это написать книгу. А на книгу у меня пока нет сил. Я не претендую на полноту, она для учебников и литературных обзоров. Это субъективные мысли о русской поэзии в Республике Коми. Поскольку мысли субъективные, то и о себе немного более чем полагается для жанра критической статьи.
Проживает в нашем огромном крае, по территории равном Франции, в настоящее время меньше миллиона человек, зато членов Союза писателей России сорок девять, не миллионов, конечно. А сколько еще имен интересных литераторов можно добавить к списку «профессионалов»! Поэты есть в каждом селе. Такое впечатление, что не стоит у нас село без поэта, пусть порой это и скромный стихотворец, не всегда знакомый со всякими там силлабо-тоническими и тоническими системами, но душа его просит лирического слова — и, может, именно его душевное поле и сохраняет деревню от тотальной эмиграции в город.
А в городах-то поэтов уже не по одному на населенный пункт, дело идет на десятки! Они собираются в литературные объединения, обсуждают свои произведения, сбрасывают с корабля современности тех, которым Бог не дал жить на земле Коми, любить тайгу и тундру, северные травы и вечную мерзлоту. Они составляют коллективные сборники и молятся Богу. Есть, конечно, исключения, которые пьянеют от слова «андеграунд» и понимают его, как индульгенцию своей душевной нетрадиционности. Но их как бы не то, что не любят и не то, что совсем не понимают, а просто жалеют. А вообще дела идут примерно вот так (самоцитата):
Провинция искренно губит —
Порядок такой,
Местный быт.
Зато не продаст.
И не купит.
Скептически лишь поглядит.
Посмотрит:
В просторе великом
Года исчезают,
И труд,
Столичные гномики с шиком
Народные песни поют…
Забавно, легко, пошловато.
И пусть — отвернись и молчи.
Какая шестая палата?!
Откуда возьмутся врачи?
Провинция медленно губит,
Смиряет душевный подъём,
Короткие улицы любит,
А всё остальное потом.
Пора бы светло удивиться,
Забыв про суды и гроши,
Забыв, что в районной больнице
Лекарств не найдёшь для души,
Но мыслим ревниво и хмуро,
Сбиваясь привычно
на штамп:
Столица —
холёная дура,
Капризная женщина-вамп,
Красивая сытая сука,
Предавшая русскую честь…
Ах, провинциальная мука!
И провинциальная спесь.
Опять выдаёт интонация,
Опять с раздраженьем любовь,
Провинция, как радиация,
Меняет невидимо кровь.
И всё-таки это планета —
Родная моя сторона.
Живи себе анахоретом,
А если однажды хана,
Она — та, что судит и губит,—
Находит от сердца слова.
И любит,
Выходит, что любит,
Раз плачет навзрыд,
как вдова.
Земля Коми никогда не знала ни вражеских нашествий, ни крепостного права. Но судьба у неё с Россией всегда была общей.
После Отечественной войны 1812 года сюда ссылали французов. В Сыктывкаре, бывшем Усть-Сысольске, до сих пор даже есть местечко «Париж». В советское время это был самый криминальный район. Здесь можно было легко нарваться на Бородино, Ватерлоо и Березину в одном флаконе — без всякого повода. Позднее, когда на улице Кутузова появились многоэтажные дома, ситуация изменилась к лучшему, появился даже супермаркет «Париж», но я на всякий случай все равно туда не хожу. Зато часто слышу шутку, что Сыктывкар такой большой город, что Париж у него только микрорайон.
После пленных французов были пленные немцы и «враги народа». И смешался немыслимый людской конгломерат: воры и философы, убийцы и врачи, садисты и священнослужители, насильники и художники, дезертиры и доблестные военачальники. Сколько знаменитых людей прошло через лагеря в Коми!
Много чего оказалось здесь намешано в человеческих душах. И то ли безымянные могилы того требуют, то ли нарушившаяся гармония неспешного течения жизни, то ли сам сформировавшийся человеческий потенциал, а, скорее всего, и то, и другое, и третье. А также острое осознание общности своей истории с историей России, и вдруг неожиданно и по-северному упрямо понятая сопричастность судьбы с богоносной державой. Но не могут здесь не рождаться всё новые искорки художественного постижения бытия! Может, чем выше широты, тем ближе к Богу, чем привычнее наблюдения бессмысленной смерти, тем неотвратимей тяга к осмыслению бессмертия. Это у меня уже пошёл «провинциальный шовинизм». Но он мне нравится, как бы кто скептически, а то и свысока ни улыбался.
Удивительное дело, сколько поэтов — хороших и разных — рождает Коми-земля! А чему, собственно, удивляться: вряд ли могло быть иначе. Земля такая. Заставляет. Видать, нужны ей поэты.
Начиналась же наша поэзия с Ивана Куратова (1839–1875). Его называют основоположником коми литературы. Это не только обязательный реверанс классику, но ещё и долг родственника — я его прямой потомок. Родился Иван Алексеевич в селе Кибры, ныне оно, понятное дело, называется Куратово. Мой прадед — отец Михаил — был настоятелем храма в этом большом селе. В 1918 году его за это хотел расстрелять местный «чапаев», которого звали Мориц Мандельбаум. Как бы сказали сегодня, австрийский наёмник. Не расстрелял, но храм закрыл. Мой дед уже жил в Сыктывкаре, а умер в Абезьлаге, чуть раньше Льва Карсавина.
Хорошо, что Иван Куратов об этом не знал, даже предвидеть не мог, как сложатся судьбы его родственников. Но на всякий случай из Усть-Сысольска он в своё время уехал. Служил в Казахстане полковым аудитором. Сегодня в Сыктывкаре на Театральной площади ему стоит памятник.
Иван Куратов писал на коми языке. Сейчас в республике пишут стихи на коми и на русском языках. Потом друг друга переводят. При этом обычно каждый считает, что его перевод значительно улучшил оригинал. Так что живём дружно. Например, один из съездов Союза писателей Республики Коми, это было в 60-х годах прошлого века, после обязательного банкета в полном составе оказался в медвытрезвителе. Покидали банкет по отдельности, а неожиданно встретились в милицейском учреждении. Решили там и открыть внеочередной писательский съезд.
Я пишу на русском языке, коми язык стал забывать уже мой отец, я знаю только несколько слов и расхожих выражений по коми — хорошего в этом мало, но факт есть факт. Русская поэзия на коми земле, как явление относительно общедоступное, а не лагерно-камерное и кухонно-герметичное, возникает в конце 50-х годов двадцатого века. Первое имя, на которое, на мой взгляд, стоит обратить внимание — Василий Журавлёв-Печорский (1930–1980). Он родился в городе Мезени Архангельской области, но детство и отрочество провёл в деревне Коровий ручей Усть-Цилемского района Коми АССР. Это места старообрядцев — здесь говорят по-русски. Здесь Василий Журавлёв-Печорский стал поэтом, стал «лирическим энциклопедистом природы Печорского севера», который исходил вдоль и поперёк. Именно ему, на мой взгляд, принадлежит точный образ судьбы северного поэта — жаворонок.
Соловьи на Севере не водятся —
Заменяют жаворонки их.
И поэтому им каждый год приходится
День и ночь работать за двоих.
Жаворонков любят северяне,
Но твердит народная молва,
Как в безмолвном утреннем тумане
Кровью орошается трава.
Ты, который рвёшься в поднебесье,
Может и твоя пришла пора?
…Сердце не выдерживает песни
и бросает птицу в клевера.
Второе знаковое имя для меня — народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. В России такое звание дают только в национальных республиках, уникальный случай, что его дали русскому поэту. В середине 80-х, каждый раз вынужден добавлять, что прошлого века, хотя, наверно, это и так понятно, Надежда Мирошниченко организовала литературное объединение «Сыктывкарская мастерская». Из него вышло много настоящих поэтов и прозаиков. Можно сказать, что это было рождение русской литературы в республике.
Как говорит она сама: «Литератор после священника — второй человек, который отвечает за нравственное состояние своего народа. Он также должен подвигнуть людей к спасению душ и своим творчеством служить этому спасению… Вера даёт масштаб мышления. С возвращением к ней для меня открылись планетарные взгляды на Россию и на площади России. Всё главное открывается через Веру».
Мне говорили: сильная!
А я бывала слабою.
Смеялись люди сытые:
Была бы лишь не бабою.
А бабою бывала я,
Поскольку истерически
Не быть в России бабою —
Не выжить исторически.
Виктор Кушманов (1939–2004) получил звание народного поэта посмертно, как часто бывает, не успели.
Его называли коми Есениным, хотя он был, конечно, не Есенин, а другой. Лишь внешне был очень похож на знаменитого рязанского пиита. Он родился в посёлке Ниашор Сысольского района Коми АССР, в нём жили спецпоселенцы, виновные, а часто и невиновные, перед советским законом. После смерти матери с 1945 по 1953 год воспитывался в детских домах. С 1973 года — член Союза писателей СССР.
Расставшись, я оставил рощу
Тебе на память. Две реки.
Одну весну. Сырую осень
Из зыбких шорохов тоски.
Оставил: праздников четыре,
Два первых снега, ливня два
И гроздь заснеженной рябины,
Чтоб не болела голова.
Приведу несколько слов о нём его друга журналиста Валерия Туркина: «Свою последнюю книжку (всего было больше десяти) назвал „Прости". У друзей сжалось сердце от дурного предчувствия. Слава Богу, прожил ещё три года. Мне подарил её с таким автографом-экспромтом: „Надеялся я и верил, /Что толстую книгу издам... /Да здравствует Туркин Валерий, /От полных краснеющий дам! /Может быть, только поэтому/ Ясная в простоте, /Понравится эта книга, Склонная к полноте!"».
Дмитрий Фролов (1957–1995) — воспитанник «Сыктывкарской мастерской» Надежды Мирошниченко. Родился в селе Тракт Княжпогостского района Коми АССР. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Был похож на лесного человека, можно сказать, лешего. У него даже есть такой цикл стихов — «Лешие». Мучительно искал истину, на какие только «духовные» собрания не ходил. В последний год жизни держал Великий пост и причащался в Православной церкви. Наш родной Коми край называл «северною вотчиной души».
Сейчас некоторые его стихи кажутся пророческими:
Моя любовь над пропастью скользит
по тоненькой и звонкой паутинке,
в случайной толчее пустых обид,
сама с собой в задорном поединке.
Весёлый и смешной эквилибрист,
скользит она, отважна и воздушна,
и солнечная прядь, как жёлтый лист,
топорщится упрямо на макушке.
К ней белые болонки-облака
боками льнут доверчиво и влажно...
Когда любовь настолько высока,
поверьте мне,
упасть
совсем не страшно!
Анатолий Илларионов (1952–2008) родился и всю жизнь прожил на станции Ираёль. Как он шутил, «Все поедут в ИзраЕль, а я поеду в ИраЕль». Работал в Ираельской дистанции пути Сосногорского отделения Северной дороги. Его прозрачными, лёгкими и в то же время глубокими стихами восхищались многие московские поэты, в частности Юрий Кузнецов. Анатолий Илларионов умер от рака. Мне довелось быть составителем его посмертной книги «Прощальный полёт».
Звёздный холод. Ночной небосвод.
Можно с Тютчевым спорить и с Блоком.
Можно верить, что все мы под Богом.
И надеяться: Бог нас спасёт.
Александр Суворов приехал в Республику Коми со станции Бира Дальневосточной железной дороги в Еврейской автономной области, точнее, его привезли родители. Отец, сын репрессированного архангельского священника, отбыл срок по известной 58-й статье и выбрал для места жительства Сыктывкар. Теперь это родина поэта Александра Суворова — навсегда.
Пустынно в вечной звёздной толкотне,
И лгут астрономические доки.
Я знаю, во вселенской тишине
Никто не слышит нас — мы одиноки.
Никто не слышит нас в бездонной мгле,
Один Господь внимает нашим вскрикам.
Но Он молчит, поскольку на земле
Всё сказано о низком и великом.
Валерий Вьюхин родился в деревне Большой Исток Череповецкого района Вологодской области. Работал бортмехаником в Коми управлении гражданской авиации. Его поэзия неразрывно связана с небом, и в то же время он напряженно размышляет о судьбе России. Куда мы летим?!
Владимир Подлузский родился в селе Рохманово Унечского района Брянской области. В Коми приехал работать журналистом. Постоянно публикуется в ведущих московских журналах, на сайте «Российский писатель». В 2012 году Владимир Подлузский издал роман в стихах «Тарас и Прасковья». За эту книгу он удостоен Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества».
Татьяна Канова прекрасно знает коми язык, но пишет стихи на русском — на русском говорит её душа. Живёт она в селе Кольёль, а работает учителем математики в селе Межадор.
На любителя
Я в городе, который не люблю
За суету, за непонятный гонор,
За выдающий снисхожденье говор,
За неуклюжесть сельскую свою,
За узловатость нехолёных рук,
Что так заметна в модных магазинах,
За умноженье в глянцевых витринах
Невзрачности, усталости и мук.
Я в городе, который мне не мил.
Взаимно, впрочем, что уж там рядиться:
Смешно мечтать, что мне он покорится.
Но ведь и он меня
не покорил.
* * *
Я родился и прожил более сорока лет в Воркуте. Андрей Попов — не очень запоминающееся имя. Это, конечно, не Лермонтов или Маяковский. Такие фамилии сразу входят в сознание и подсознание — можно даже стихи не писать. Надо было мне в своё время взять псевдоним, как это сделали Александр Серафимович или Александр Яшин, рожденные Поповыми, но поначалу не догадался, а сейчас уже поздно…
Василь Василич назывался дедом,
Но был не дед мне — знал я про обман.
Он помогал чинить велосипеды,
До станции нёс маме чемодан.
Не воевал — в тюрьме сидел, наверно,
Украл чего-то — это я решил.
В России мир… Он пил дешёвый вермут,
Чуть что ругаясь — мать твою в кувшин.
А мама говорила деду строго:
— Не матерись, здесь не пивной буфет.
И дети слышат. Ты побойся Бога!
Василич отвечал, что Бога нет.
К нему приехал за отцовской лаской
Сын из Тамбова, тридцати двух лет.
На мотоцикле новеньком с коляской
Катал родню — и вылетел в кювет.
Все живы — их на «скорой» увозили,
Среди сочувствий, вздохов и машин
Дед отряхнулся от дорожной пыли —
Ни ссадины. Вот мать твою в кувшин!
В России мир… А мы идём в больницу,
Родным несём мы яблоки и мёд.
Василич верит, хоть и матерится —
Всё будет хорошо, и Бог спасёт.
О своих предках я узнал благодаря краеведу Анне Георгиевне Малыхиной, когда мне было уже больше тридцати — меня только-только приняли в Союз писателей России.
Уже мой пра-пра-пра-пра-пра-прадед Тимофей (р.1695г.) вышел из крестьянского сословия и служил в церкви пономарём. Его дело продолжили сын Пантелеймон и внук Пётр. А правнук Алексей Куратов (1798–1845), отец первого коми поэта, был рукоположен в диаконы. У Ивана Алексеевича Куратова была сестра Антонина, она вышла замуж за иерея Константина Попова. Один из их сыновей Михаил Попов (1849–1933) стал священником Спасской церкви в селе Кибры. У протоиерея Михаила Попова было одиннадцать детей. Моего деда он назвал Модест. В Казанском соборе Санкт-Петербурга, когда ещё он служил местом для музея религии и атеизма, я видел икону святого Модеста, которого, по словам экскурсовода, просили о молитвенной помощи в сохранении здоровья домашних животных, особенно коров и лошадей. Удивительно, что мой дед окончил духовную семинарию, однако всё-таки выбрал профессию ветеринарного врача.
Мой сын Дмитрий с большим уважением относился к тому, что происходит из рода Куратовых. Его радовали и мои скромные литературные успехи, хотя увлекали компьютерные технологии, программирование. Однажды он написал стихотворение о Воркуте и подписал его Дмитрий Куратов.
От холодного эфира
У меня краснеет нос.
Воркута — столица мира,
Где морошка и мороз.
Здесь мои шагают годы,
Как гвардейские полки,
Здесь живут оленеводы
И бастуют горняки.
А на клич курортных мафий
Жить в тропическом краю
Я скажу: «Идите на фиг.
Дайте родину мою».
Что мне в Африке квартира,
Если там, как чудо, снег?!
Воркута — столица мира,
Я — столичный человек.
Больше он стихов не писал. Но обещал, что признания людей и доброй известности добьётся: «Мы же Поповы и Куратовы!».
Диму убили как-то по-азиатски дико и коварно. Таксист-кавказец угостил его кофе, в котором был подмешен сильнодействующий яд. Забрал мобильный телефон и пару тысяч рублей — и выбросил на мороз, было минус десять градусов. Когда Диму нашли, он еще некоторое время подавал признаки жизни в милицейской машине…
Скорбь моя безутешна. Уповаю, что в небесных селениях моего сына встретили многочисленные праведники из рода Куратовых и Поповых, и он обрёл с ними радость преисполненную.
В прокуратуре
Я весь седой и многогрешный —
Юн старший следователь, он
Ведёт допрос, чтоб потерпевшим
Признать меня.
Таков закон.
Рассказывает без запинки,
Придав словам суровый вид:
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.
Привычны горестные были
Для умирающей Руси:
Клауфелином отравили
И выбросили из такси.
И он замёрз.
Скупые вздохи
Кто может слышать в тёмный год?!
Замёрз от февраля эпохи
Всепобеждающих свобод.
И ни молитва, ни дублёнка
Не помогли его спасти,
И Богородицы иконка
С ним замерзала на груди.
Какую вытерпел он муку,
Не перескажет протокол!
И ангел взял его за руку,
В селенья вечные повёл.
А мне произносить с запинкой
Слова кафизм и панихид.
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.
Нет больше никаких вопросов,
И прокурор, совсем юнец,
Мне говорит, что я философ.
Я не философ, я отец.
Ах, следователь мой неспешный,
Ты не поймёшь, как я скорблю…
Я потерпевший, потерпевший.
Я потерплю.
Сейчас я живу в Сыктывкаре, тоже столица. Как говорит Надежда Мирошниченко, «столица поэзии русского Севера». Но о воркутинцах помню. Ольга Хмара через любовь к заполярному городу переосмысляет многие проблемы современной жизни. Её последняя книжка называется «Каторжанка снегов». А вот Елены Поварковой (1977–2012) уже не вернёшь...
Игорь Вавилов (1965–2011) состоял во всех мыслимых и немыслимых писательских союзах. Это его коллекционированием было. Андрей Битов, прочтя его стихи в журнале «Дружба народов», назвал их «европейскими». За три дня до смерти Игоря мы с ним вместе возвращались после работы, рассуждая о бессмертии души. Ничего не предвещало беды. Внезапный инсульт. Составлял и редактировал его посмертную книгу «Необратимость бытия».
Анатолий Пашнев (1952–2013) жил в Ухте, решил переехать в Анапу — в тёплые края. Там умер от инфаркта. На мой взгляд, был одним из лучших русских лириков. За всю жизнь издал всего две тоненьких книжки — некогда было.
И проследить длинный путь,
Словно над бездной скользя.
Как это больно вдохнуть!
Выдохнуть это нельзя…
У меня есть посвящение Анатолию Пашневу.
Если вдруг доживём до расстрела,
То поставят, товарищ, к стене
Нас не за стихотворное дело,
Нет, оно не в смертельной цене.
Мир уже не боится поэта,
И высокое слово певца
Он убьёт, словно муху, газетой,
Пожалеет на это свинца.
Для чего сразу высшая мера?
Водка справится. И нищета…
Но страшит его русская вера,
Наше исповеданье Христа.
В ней преграда его грандиозным
Измененьям умов и сердец.
И фанатикам религиозным
Уготован жестокий конец.
Вновь гулять романтической злобе,
Как метели, в родимом краю…
Если только Господь нас сподобит,
Пострадаем за веру свою.
А солдатикам трудолюбивым
Всё равно, кто поэт, кто бандит —
Не узреть им, как ангел счастливый
За спасённой душой прилетит.
Ещё одна наша неожиданная и трагичная утрата — Александр Поташёв (1971–2013). Родился в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа Архангельской области. Детские годы прошли в деревне Усть-Ижма. Жил в поселке Щельяюр Ижемского района. Это очень далеко даже от Сыктывкара, но зато там всё близко к сердцу. Стихи Саши проникнуты удивительной образностью. Он учился на Высших литературных курсах, не закончил. Приехал домой в Щельяюр и замолчал. Несколько раз обещал мне начать работать, начать писать. Обещания не сдержал. Мобильный просто отключил или выбросил. О его смерти сообщил Надежде Мирошниченко священник из Ижмы.
Несколько слов о молодых поэтах. Андрей Нитченко из Инты и Екатерина Соколова из Сыктывкара становились победителями всероссийской премии «Дебют».
Инга Карабинская из Ухты — лидер молодой поэзии республики, автор двух сборников, публиковалась в журналах «Наш современник», «Юность», «Дон». Как пишет о её творчестве Надежда Мирошниченко: «Стихи её взрывают душу состраданием и восторгом». В Ухте ещё есть Дарья Снегирёва, автор двух сборников стихов, её поэма «Детдомовец» была опубликована в «Академии Поэзии».
Теперь о моих воспитанниках из литературного объединения Союза писателей Республики Коми. Анне Чалышевой всего 21 год, но её творчество уже замечено в Москве. Она автор двух тоненьких книжечек «Дыхание» и «Письмо из апреля», публиковалась в журналах «Литературная учёба» и «Юность». В декабре 2014 года она стала лауреатом общероссийской премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, учреждённой «Литературной газетой». Выпустили свои книги и участвовали в различных, в том числе и международных, литературных семинарах Владимир Устюгов, Алексей Засыпкин, Мария Игонина. Интересные стихи пишет выпускница Сыктывкарского государственного университета Мария Размыслова, она уже публиковалась в «Литературной России» и журнале «Юность». Мне все они кажутся настоящими. Дай Бог, чтоб они состоялись.
Уже 10 лет в Сыктывкаре 21 марта во Всемирный день поэзии проходит Поэтическая эстафета — чтение стихов с утра до вечера, принимают участие только хорошие поэты — гарантирую. Приезжайте — не пожалеете.
Стихи поэтов Республики Коми
Василий Журавлёв-Печорский (1930–1980)
* * *
Родился там-то и тогда-то...
Перебирая книжный хлам,
Меня очкастые ребята
Разыщут с горем пополам.
Тире — и дальше день кончины.
Вся жизнь вошла в одну строку.
Ни состояния, ни чина,
Ни пистолета на боку.
Всю жизнь свою куда-то ехал,
Бродил в лесах родной земли...
Ещё не раз таёжным эхом
Я вам откликнусь издали.
Я стал несказанно богатым
И не во сне, а наяву,
Ведь в песне, что сложил когда-то
Ещё долгонько проживу.
Родничок
Где Пижма берёт истоки,
У каменистых круч,
Как северянин окая,
Бьёт безымянный ключ.
Тихо вначале, робко,
Ощупью,
Налегке
Он пробивает тропку
К давно замёрзшей реке.
А осмелев, ударит
С маху о толстый лёд.
Смотришь — на месте
Опарин
Заберега блеснет...
В самую лютую стужу
Разносится радостный звон...
Бьёт родничок и не тужит,
Что безымянный он.
Надежда Мирошниченко
По имени провинциалы
А мы всё равно не большие,
С какой ни гляди из сторон,
Извечные стражи России,
Хоть имя нам — не легион.
Сбегаем мы к рекам по тропам,
Проспектами тянемся мы
К завидным дорогам Европы,
К столице родимой страны.
Левша тут скучает, а Вертер
Вовсю собирается к нам.
Здесь лучший из лучшего ветер
Гуляет по всем головам.
По имени п р о в и н ц и а л ы
Мы стойко храним рубежи
Разросшейся родины малой,
Над пропастью, вставшей во ржи.
Но если мы вдруг обессилим,
С тобою что станется, Русь?
С тобою что станет, Россия?
Я даже представить боюсь.
Русский романс
Как жаль, что декабрь на дворе,
Что холодом душу свело.
Зато вся земля в серебре,
И всё-таки в мире светло.
А я унывать не люблю.
И ты меня лучше не тронь.
Я печку в дому затоплю
И буду смотреть на огонь.
Он вьётся в печурке, как вьюн.
Он тайною дышит своей.
А хочешь, я чаю налью
Покрепче, чтоб было теплей.
И может, оттаю сама
И стану, как прежде, собой.
Какая крутая зима!
Как холод кипит голубой!
Виктор Кушманов (1939–2004)
* * *
Лес вымер. Он стоит без листьев.
Засохли корни в почве. Кончен бал.
Пропитан воздух запахом больницы,
И птичий крик похож на выдох «ах».
И это «ах» последнее от птицы.
И только тень, упавшая на мох,
Напомнит нам,
Что здесь шумели листья,
И путались купальницы у ног.
И было столько чистоты и неги,
И солнца, и воды, и облаков…
Тянула лошадь медленно телегу
И фыркала от запахов цветов.
Навстречу лошади, телеге —
В платье тесном,
С корзиной ягод — ясная собой —
Шла босиком прекрасная из женщин
По той земле,
Беременная мной.
Ах, Господи!
Каким же было благом,
Ещё не появившимся на свет, —
Уже любить траву, деревья, маму
И то, чего на этом свете нет.
Любовь, которой не было
Зима кружится белая,
Зима кружится белая,
Дела мои плохи.
Любви, которой не было,
Любви, которой не было,
Опять пишу стихи.
Как песенка несмелая,
Цветет крапива серая,
А дождик льёт и льёт.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Меня с ума сведёт.
В том доме нету мебели,
Кто жил там — все уехали,
Висит пальто с прорехами,
Забыл какой-то гость.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Опять как в горле кость.
Я на таёжном севере,
На придорожном дереве,
Петлю себе примеривал,
Да затянуть не смог.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было…
Вот всё, что я сберёг.
Дмитрий Фролов (1957–1995)
* * *
В час рассветный
мы добрей и чище
Ангелов и маленьких детей,
Мы освобождения не ищем
От грехов привычных и страстей.
Синие двухъярусные шконки
«С»-образно выстроились в ряд.
Бледною лампадой под иконкой
Сквозь «ресницы» теплится заря.
Только в это время,
в час рассветный,
Постепенно сводится на нет
Люцифера свет люминесцентный —
И нисходит долу Божий Свет.
На душе и в камере не душно.
Голова молитвенно чиста.
И мерцает нам в тени подушки
Отсвет от нательного креста.
* * *
Поэт в гостях — как скверный анекдот,
рассказанный в компании пристойной:
он нецензурен, бородат и пьёт
отнюдь не чай. Беседою застольной
он давит на гостей, тем кус не лезет в глотку,
а он и рад! А он к бутылке водки
через салаты лезет напролом
и жмёт соседке ножку под столом.
Всего за час, дитя страстей и блуда,
намелет столько скверной чепухи,
что хоть беги из дома!
Ну откуда
берёт он эти светлые стихи?!
Анатолий Илларионов (1952–2008)
* * *
Лохмотья мха в пазах избушки,
Болотца здесь да озерки.
Поют печальные лягушки,
Да окликают кулики.
Здесь мне не скучно ждать рассвета,
На берегу, у костерка,
Где звёзды дребезжат от ветра
И гаснут в дебрях сосняка…
Здесь мне не очень одиноко,
И впереди ещё мой путь,
Где мне возможно верить в Бога
И в самого себя чуть-чуть.
Чёрное перо
Хруст хвои и хрипы сквозняка,
Вздох восхода.
Как с тобой проститься?
Белое перо берёт рука,
Чёрное перо роняет птица.
Я не знаю, как тебя зовут,
И по лепесткам цветов гадаю,
Что на подоконнике цветут,
Потому что уличных не знаю.
Потому что севером рождён,
Там, где сосны облака качают.
Белое перо — волшебный сон,
Чёрное перо — не поднимают.
Всем цветам приходит время цвесть,
Женщинам обычно дарят розы,
К сожаленью, все ответы есть,
Но к ответам кончились вопросы.
Хруст хвои на хриплом сквозняке.
Вздох восхода. Тишина заката.
Белое перо дрожит в руке,
Чёрное перо не виновато.
У судьбы сума есть и тюрьма,
Иногда в судьбе стихи бывают.
Нам хватает сердца и ума,
Только жизни часто не хватает.
Всё уже случалось, всё старо.
Имя я твоё не отгадаю.
Я роняю белое перо.
Чёрное перо я поднимаю.
Андрей Попов
* * *
Порой не укладывается в голове —
Почему люди маются? Чего хотят?
Как можно жить,
спеша и толкаясь, в Москве?!
Переехали бы хоть в Сергиев Посад.
Как понятней в деревне жить
иль в городке:
И в любом нелёгком,
переломном году —
Летом перед работой
искупнуться в реке,
Зимой вернуться домой
по речному льду.
И даже концы с концами сводя едва,
Полагать, что сложности у нас не впервой,
Но нельзя отступать: за нами Москва.
Москва за нами, а не мы за Москвой.
* * *
Господи, Лазарь, которого любишь Ты, болен,
Жизнь его оставляет, и это совсем не хандра…
Даруй ему исцеление — на всё лишь Твоя воля.
Он говорить не может и встать не может с одра.
Как не отчаяться, Господи! Что же Ты нас оставил?!
Умер в Вифании Лазарь. И мы умрём вместе с ним.
Как нам понять и поверить, что это не к смерти, а к славе?
Что же Ты медлишь, Господи, любящим сердцем Твоим?
* * *
Ищешь чувственною дрожью,
Смотришь в мысленный чертёж —
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!
Что ни скажешь, будет ложью,
Промолчишь — и тоже ложь.
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!
Только Господу известно,
Почему удел такой —
Сын живёт в стране небесной,
Я живу в стране земной.
Так легко смутить поэта,
Плачу я в земном краю,
Как понять мне благо это,
Правду Божью, скорбь мою?
* * *
Кто-то тайно приказы изрёк,
Кто-то свёл в напряжении скулы,
Чья-то мысль,
словно пуля, мелькнула —
И я выбран, как верный залог.
Эй, поэт, затаись между строк
И смотри в автоматное дуло!—
Гаркнет резко исчадье аула,
Палец свой положив на курок..
Я — заложник столетней беды,
Мне в лицо она весело дышит…
Праздный мир
с одобреньем услышит,
Что меня, приложив все труды,
Обменяли на сумку с гашишем
И на остров Курильской гряды.
Валерий Вьюхин
Земляника
В глухом краю заросший луг,
В его траве, как первый иней,
Белеет пятнами вокруг
Недогоревший алюминий.
Лежат белёсые листы,
Травою новой перевиты.
Кабины тёмные пусты
И так пугающе разбиты.
Их зверь подальше обойдёт,
И птица их посторонится.
Лишь грустный свет на самолёт
Уронит красная зарница.
И долго бродят по ночам
По лугу призрачные блики.
А днём земля здесь горяча,
Земля красна от земляники.
Но эти ягоды не рвут —
Их пальцы вытерпят едва ли.
Они созреют, упадут
И запекутся на дюрали.
Владимир Подлузский
Московский вечер
Густой державной зелени полоска.
У трёх вокзалов вызрела трава.
Я с высоты гостиничного лоска
Гляжу как в вечер ввинчена Москва.
Похожая на люстру из игрушек,
Подвешенных за шпили к небесам.
Со свечками соборов и церквушек,
Со страстною любовью к чудесам.
Сиреневая розовая влага
Течёт вдоль тысяч спелых фонарей.
Москва — оседлая, Москва — бродяга,
Москва — ладья для райских фонарей.
Украшенная нашими мольбами
Таинственная майская земля.
Приезжие в стекло упёрлись лбами,
Глазея на величие Кремля.
Мы не чужие в белом граде громком,
Не пыль провинций, а золотники.
Пришли в Москву
к своим прямым потомкам
Наученные ею мужики.
Игорь Вавилов (1965–2011)
* * *
Бывает тишина стихией,
Навалится — и онемеешь сам,
Окаменеешь или улетишь
Без страха в вечность...
Так летает стриж,
Невысоко, в предчувствии ненастья,
Меняя направления и часто
В себя вбивая землю,
От удара — грохочет гром,
И нити тишины становятся дождём.
Татьяна Канова
* * *
Устав, часы сочли ненужным тикать —
В оглохшем доме тихо, как в гробу.
Неспешный вечер, словно чья-то прихоть,
Неслышно пробирается в избу,
Лениво, сторонясь застывших окон,
Ложится в уголочек у печи.
Какими одиночествами соткан
Его покров? Не вызнать!
Помолчим
Вдвоём, пока ни шороха, ни света.
Озябший вечер дышит мне в лицо.
Лишь я да он.
Мне б пожалеть об этом
Да, хлопнув дверью, выйти на крыльцо,
Да закричать, завыть с тоской на пару,
Всё выплакав, по-бабьи — в три ручья,
Пойти на праздник в клуб да выдать жару!
Как кстати будет то, что я — ничья.
Что мне с того, что глупых пересудов
Деревне хватит зиму скоротать?!
Мне всё равно!
А всё-таки не буду
Ни утешать себя, ни потешать
Народ своей вечернею печалью.
Я сумерки свои перетерплю.
Как только ночь мой дом накроет шалью,
Пущу часы и печку затоплю.
* * *
Ночной звонок, нежданный в сонном доме,
Незваный гость — на свет из темноты.
И всё сошлось в калейдоскопе, кроме
Того, что гостем мне навстречу — ты.
И всё сошлось: казённая дорога,
Слепая ночь и непролазный путь,
И надо бы лопату на подмогу:
— Хозяйка, нет ли хоть какой-нибудь? —
В усталом взгляде искра удивленья. —
Неужто ты?
— Как видишь, это я!
И в сердце снова прежнее смятенье,
И отозвалось из небытия
С таким трудом сожжённое былое,
С такою болью вырванное прочь.
Зачем опять меня свели с тобою
Дорога, грязь и эта ведьма-ночь?
Ольга Хмара
* * *
Я — поэт. И мой воздух — тоска,
Можно ль выжить, о ней не поведав?
Б. Чичибабин
Котейку замучили блохи.
…Уткнувшись в плечо январю,
Сижу на обломках эпохи.
Молчу. А курить — не курю,
Поскольку неважно дружила
И с водкою, и с табаком.
С того ли с немыслимой силой
Тоска бьёт в лицо кулаком?..
Глазею безмолвно, без толку
На полки прочитанных книг.
Скажите же что-нибудь, полки!
Ответь, грандиозный старик:
Что проку от читаных книжек?
Что смысла в тугих парусах,
Когда не надеется выжить
Уже и сам Бог в небесах?!
Сей выводок — до середины…
Сей поезд крылатый — к нулю…
И с прошлым порвав, пуповина
Мастырит степенно петлю.
Метели надрывные вздохи
Доделали дело таки:
Котейку покинули блохи,
Не вынеся русской тоски.
Одесская Хатынь
Ты, память, невзначай нас, грешных, не покинь!
…Забудьте, небеса, меня, коль я забуду,
Как корчилась в огне Одесская Хатынь.
Как славила толпа кровавого Иуду.
Вкус прожитого дня и горек, и остёр.
Безбожно давит скорбь опущенные плечи.
Прими, Господь, людей, взошедших на костёр
За право вольной быть вовеки русской речи.
От крови опьянев, безумная толпа
Осанну Сатане выводит голосисто.
…О, как взываю я, чтоб в руки мне попал
Один из тех зверей, бандеровцев, фашистов…
Я — не из палачей. Беснуясь и грозя,
Не стану головы сносить его повинной.
Я просто попрошу, чтоб глянул он в глаза
Всем, у кого отнял: отца, невесту, сына…
И даже преломить ему позволю хлеб.
И прикажу смотреть в глаза беды кромешной
Ежесекундно, так, чтобы, прозрев — ослеп
От ярости людской, неплачущей, нездешней.
И в завязи плода горчи, горчи, полынь.
Осеннею порой кричи об этом мае.
Слезам не потушить Одесскую Хатынь, —
Костры вовсю горят, который твой — кто знает…
Анатолий Пашнев (1952–2013)
Ночь
Надежде Мирошниченко
Зачем в этом стылом молчанье
Повергнутых в бездну миров
Слепое твое колыханье
И тени пророческих снов?
Зачем тебе мой, человечий
Предел, когда властвует мгла,
Когда ты по самые плечи
Меня этой мглой замела?
И дышишь в лицо мне, и снова
Пускаешь под сердце змею?
Немая, ты требуешь слова
В немую корону свою.
Как ворон, кружишь надо мною,
Сжимая в когтях бытиё.
О, ночь! Ты заплатишь звездою
За каждое слово моё.
Попутчица
Трудное, трудное — все забывается.
Светлые звезды горят!
Н.Рубцов
Спутники вечные, маги дорожные,
В тёмном вагонном окне.
Южные звёзды на жемчуг похожие,
Что вы пророчите мне?
Чувствую: время летит и торопится,
И, как под топот копыт,
Юной попутчице спать не захочется.
Всё говорит, говорит.
Голос её, как ручей с переливами,
Как эти звёзды во мгле,
Мне обещает, что будут счастливыми
Люди на доброй земле.
И оттого ли, что вдруг заметелится
Светлая грусть на душе,
Может, и мне в это снова поверится,
Может быть, верю уже.
Может, и мне в эти ночи недлинные
К счастью звездой улететь,
Если в глаза её тёмные, синие
Долго, как в небо, смотреть.
Елена Поваркова (1977–2012)
Одинокий портвейн у оврага
Я сижу у реки. Лето мается.
Молча песню из горлышка пью.
Не страдается мне. Не икается...
Так же тускло, наверно, в раю.
Померла, что ль?..
Ни грустно, ни радостно.
Незабудку сжимаю в горсти...
Без тебя не до дома — до августа
Как мне, пьяной такой, доползти?
* * *
Какое счастье может быть?
Лишь понарошку и авансом.
Когда лишь боль могу любить,
Когда порок считаю шансом.
И приговоры выношу,
И устанавливаю сроки…
Когда в Твоей ночи пишу,
Бесцеремонно правлю строки
Не мной написанных стихов,
И на Твои светила вою,
И самый тяжкий из грехов
Несу, как нимб над головою.
Александр Поташев (1972–2013)
Берег
Ещё в небесной гавани Печоры
в вечернем ветре плещется заря,
и парусами сонно никнут шторы
у тихого причала ноября.
Сойду со сходней ночи
в гулком поле
и припаду к щемящей тишине,
где от костра необратимой боли
ты пламя рук протягивала мне...
Уже зима в забывчивости слепла.
Так почему ж, ослепшему вчера,
мне даже снегопад казался пеплом,
хрустальным пеплом твоего костра?
Где без конца — единое начало —
цепная ночь не сходит со двора.
Я оторвусь со своего причала
за звёздным дымом твоего костра.
И отойдёт с печальным опозданьем
от горизонта дымка птичьих стай…
Я вновь шепчу кому-то:
«До свиданья!»,
когда так надо прокричать:
«Прощай!».
Причал
Какой туман! Я снова на причале.
Паром безлюден. Мне уже пора.
А мысли, словно бабочки, сгорали,
всю ночь слетаясь к пламени костра.
Мне нравится, что тратится на брызги
его восторг у призрачной черты,
что жаждет жертвы,
что в предсмертном визге
взмывает выше собственной мечты.
Сгорю и я на этом перегоне,
Спорхну с улыбкой с вешних губ земли.
Гори, костёр, пока пасутся кони,
их звёздный зов оплачут журавли.
Гори, костёр! А по ступеням терний
небесных лестниц с шелестом дождей
восходит осень гулкою вечерней
в алтарь зари с кадильницей твоей.
Гори, костёр, пока грустит о чём-то
с причала ночь, и чудится с кормы —
топор заката в плаху горизонта
уже вошёл по рукоять зимы.
Инга Карабинская
Рукописи горят
Нынче такая зима,
как в последний раз —
Стоит ли тратить силы
в такой глуши?
Сшей мне из тёплой шерсти
десяток фраз,
Если не можешь —
бог с ним, хоть напиши.
Я здесь — легко, без надрыва,
да и к чему
Гром откровений
в краю индевелых мхов.
Знаешь, пока я слушаю тишину —
Может, навяжешь мне
потеплей стихов...
Этот глухой, безжизненный звукоряд
Лечит от всех недугов
и прошлых слёз.
...Как хорошо, что рукописи горят.
Если б не это, я бы совсем замёрз.
Голубятня
Если что от меня и останется — не ищи.
Вечность не стоит минуты сна. Бесконечность — шага.
Помнишь белую голубятню? Вот от неё ключи.
Будет легко — танцуй.
Больно — плачь.
Тяжело — кричи.
Лихом не поминай.
И вообще поминать не надо.
Если что обо мне и спросят — скажи, как есть:
Мол, отошёл на минутку к колодцу. Сказал «не ждите».
Там он — махнёшь рукою за дальний лес —
Вон до той радуги,
после — влево, потом окрест
и до самой весны, не сворачивая, идите.
Если кого и возьму с собой — то тебя.
В каждой строке, в каждой ноте отпетых с тобою песен.
Кстати, от голубятни слева не вырывай гвоздя,
Просто — да мало ли —
Всяко бывает,
Я, приходя,
Там оставляю ключи.
Не вернусь — ну, другой повесит...
Мария Игонина
* * *
Одну Бог создал из титана,
Другую вылепил из глины.
Поставил рядом, безымянных,
И подтолкнул к дороге длинной.
Одна за каждый шаг боролась,
Когда вслепую путь искала.
Другая просто шла на голос,
На песню звонкого металла.
Одна просила половину —
Ей в одиночку не согреться.
И создал добрый Бог мужчину
Для металлического сердца.
Другая молча наблюдала,
Ждала, пока они остынут,
Пока ему не станет мало
Одной, чьё сердце не из глины.
И он ушёл — к простой и тёплой,
А я подумала: «Как странно.
Бог включит дождь — она размокнет,
А мне — плевать, я из титана».
Анна Чалышева
* * *
Мне остаются одни наречья —
Только они выражают чувства.
Ты мне сказал, что ничто не вечно —
Стало тотчас же предельно пусто.
Я не люблю — я плююсь стихами.
Я не зову — я кричу и вою.
Боль моя странная не стихает,
Я не жива — но живу тобою.
Мне остаётся — смотреть и видеть,
Как умирают остатки света.
Я не могу тебя ненавидеть...
Я ненавижу тебя за это!
* * *
Я играю с судьбой
в пятнашки,
Затираю любовь до дыр.
Белый ворот твоей рубашки
Заменяет мне целый мир.
Пусть люблю я не тех и редко,
Но любовь моя — глубока.
И останется на салфетке
След от губ моих на века.
Я не верю, что мир потерян
Или Богом твоим забыт...
Слышишь, кто-то стучится в двери?..
Это — сердце моё стучит.
Дарья Снегирёва
* * *
В моё сердце по самую рукоятку
Нож вогнали (спасибо ещё, карманный).
А со мной — удивительно — всё в порядке:
Боли нет. Только в мыслях слегка туманно.
Только хочется больше всего на свете
Новый повод для встречи придумать всё же.
Например, позвонить и сказать: «Приветик.
Дорогой, я зайду — занесу твой ножик».
Владимир Устюгов
* * *
Солнце, касаясь светом
Юных ветвей запястий,
Нежно их тянет к небу.
Также и я во власти
Тихих Твоих призывов —
Пигалица на ладошке,
То подмигну шутливо,
То подбираю крошки.
А предавать бумаге
Смысла, пожалуй, нету,
Что мне нашепчет ангел
В это Господне Лето...
Мария Размыслова
Три книги
Женщина, хранящая молчанье,
Направляет в бег веретено.
Бесконечно, словно ожиданье,
Гладко, точно море, полотно.
Женщина выискивает травы,
Чтоб постигнуть тайну Семерых.
Полнолуния святое право —
Полный кубок зелья на двоих.
Женщина пролистывает память,
Ворошит золу своей тоски.
Между обгоревшими листами
Шелестят сухие лепестки.
...Это я! — в шальном чужом веселье
Взглядом разведу враждебный круг
И, в разгаре пиршества и хмеля,
Протяну тебе тяжёлый лук.
Это я! — услышав в звёздном хоре
Маятник движения планет,
Выйду в бурю к северному морю,
Где вот-вот покажется корвет.
Это я! — забыв неудержимо
Платье, дом, заветную тетрадь,
Оседлаю швабру, — и, незрима,
Вылечу в окно — тебя искать!
Так ответь мне — есть хоть капля толку
В этакой наивной ворожбе?
...Слишком много книг стоит на полке,
Слишком много мыслей о тебе.
Алексей Засыпкин
Раз в сто лет
Раз в сто лет большая стирка в домах богов,
И тогда река выходит из берегов,
Очищая душный город от дураков
И от слишком умных.
Всё, что дорого, не объяснив ничего,
Со стола земли смахнёт простым H2O,
Не считаясь с защитой систем ПВО
И систем иммунных.
Кто остался цел, идёт в ближайший лесок
И по новой выдумывает колесо,
Паровой двигатель, радио, пылесос
И, конечно, бомбу.
Но проходят боги раз в сто лет медосмотр.
Эскулап зевнёт, опорожнив небосвод.
Понесёт в тесные души потоки вод,
Прочищая тромбы.
Раз в сто лет. А чаще стоит ли прочищать?
Околев, по-птичьи снова всем верещать.
Быстрый сумрак, страх открытий, камень, праща
И тропа лесная.
Раз в сто лет. В какой бы тоге ни восседал,
Повезёт — в лесок придёшь нагишом сюда.
В моём городе так повелось навсегда,
А у вас — не знаю.
Есть далеко не безосновательное предположение, что Республика Коми по количеству поэтов на душу населения занимает первое место в мире. Прозаиков тоже хватает — и с российской известностью у некоторых всё в порядке, но поэты мне роднее, поэтому я на них и остановлю свое внимание. Не на всех. Только на тех, кто мне ближе. Заранее извиняюсь перед всеми достойными, их много, я о них не забыл, они хорошие поэты, но сказать обо всех, это написать книгу. А на книгу у меня пока нет сил. Я не претендую на полноту, она для учебников и литературных обзоров. Это субъективные мысли о русской поэзии в Республике Коми. Поскольку мысли субъективные, то и о себе немного более чем полагается для жанра критической статьи.
Проживает в нашем огромном крае, по территории равном Франции, в настоящее время меньше миллиона человек, зато членов Союза писателей России сорок девять, не миллионов, конечно. А сколько еще имен интересных литераторов можно добавить к списку «профессионалов»! Поэты есть в каждом селе. Такое впечатление, что не стоит у нас село без поэта, пусть порой это и скромный стихотворец, не всегда знакомый со всякими там силлабо-тоническими и тоническими системами, но душа его просит лирического слова — и, может, именно его душевное поле и сохраняет деревню от тотальной эмиграции в город.
А в городах-то поэтов уже не по одному на населенный пункт, дело идет на десятки! Они собираются в литературные объединения, обсуждают свои произведения, сбрасывают с корабля современности тех, которым Бог не дал жить на земле Коми, любить тайгу и тундру, северные травы и вечную мерзлоту. Они составляют коллективные сборники и молятся Богу. Есть, конечно, исключения, которые пьянеют от слова «андеграунд» и понимают его, как индульгенцию своей душевной нетрадиционности. Но их как бы не то, что не любят и не то, что совсем не понимают, а просто жалеют. А вообще дела идут примерно вот так (самоцитата):
Провинция искренно губит —
Порядок такой,
Местный быт.
Зато не продаст.
И не купит.
Скептически лишь поглядит.
Посмотрит:
В просторе великом
Года исчезают,
И труд,
Столичные гномики с шиком
Народные песни поют…
Забавно, легко, пошловато.
И пусть — отвернись и молчи.
Какая шестая палата?!
Откуда возьмутся врачи?
Провинция медленно губит,
Смиряет душевный подъём,
Короткие улицы любит,
А всё остальное потом.
Пора бы светло удивиться,
Забыв про суды и гроши,
Забыв, что в районной больнице
Лекарств не найдёшь для души,
Но мыслим ревниво и хмуро,
Сбиваясь привычно
на штамп:
Столица —
холёная дура,
Капризная женщина-вамп,
Красивая сытая сука,
Предавшая русскую честь…
Ах, провинциальная мука!
И провинциальная спесь.
Опять выдаёт интонация,
Опять с раздраженьем любовь,
Провинция, как радиация,
Меняет невидимо кровь.
И всё-таки это планета —
Родная моя сторона.
Живи себе анахоретом,
А если однажды хана,
Она — та, что судит и губит,—
Находит от сердца слова.
И любит,
Выходит, что любит,
Раз плачет навзрыд,
как вдова.
Земля Коми никогда не знала ни вражеских нашествий, ни крепостного права. Но судьба у неё с Россией всегда была общей.
После Отечественной войны 1812 года сюда ссылали французов. В Сыктывкаре, бывшем Усть-Сысольске, до сих пор даже есть местечко «Париж». В советское время это был самый криминальный район. Здесь можно было легко нарваться на Бородино, Ватерлоо и Березину в одном флаконе — без всякого повода. Позднее, когда на улице Кутузова появились многоэтажные дома, ситуация изменилась к лучшему, появился даже супермаркет «Париж», но я на всякий случай все равно туда не хожу. Зато часто слышу шутку, что Сыктывкар такой большой город, что Париж у него только микрорайон.
После пленных французов были пленные немцы и «враги народа». И смешался немыслимый людской конгломерат: воры и философы, убийцы и врачи, садисты и священнослужители, насильники и художники, дезертиры и доблестные военачальники. Сколько знаменитых людей прошло через лагеря в Коми!
Много чего оказалось здесь намешано в человеческих душах. И то ли безымянные могилы того требуют, то ли нарушившаяся гармония неспешного течения жизни, то ли сам сформировавшийся человеческий потенциал, а, скорее всего, и то, и другое, и третье. А также острое осознание общности своей истории с историей России, и вдруг неожиданно и по-северному упрямо понятая сопричастность судьбы с богоносной державой. Но не могут здесь не рождаться всё новые искорки художественного постижения бытия! Может, чем выше широты, тем ближе к Богу, чем привычнее наблюдения бессмысленной смерти, тем неотвратимей тяга к осмыслению бессмертия. Это у меня уже пошёл «провинциальный шовинизм». Но он мне нравится, как бы кто скептически, а то и свысока ни улыбался.
Удивительное дело, сколько поэтов — хороших и разных — рождает Коми-земля! А чему, собственно, удивляться: вряд ли могло быть иначе. Земля такая. Заставляет. Видать, нужны ей поэты.
Начиналась же наша поэзия с Ивана Куратова (1839–1875). Его называют основоположником коми литературы. Это не только обязательный реверанс классику, но ещё и долг родственника — я его прямой потомок. Родился Иван Алексеевич в селе Кибры, ныне оно, понятное дело, называется Куратово. Мой прадед — отец Михаил — был настоятелем храма в этом большом селе. В 1918 году его за это хотел расстрелять местный «чапаев», которого звали Мориц Мандельбаум. Как бы сказали сегодня, австрийский наёмник. Не расстрелял, но храм закрыл. Мой дед уже жил в Сыктывкаре, а умер в Абезьлаге, чуть раньше Льва Карсавина.
Хорошо, что Иван Куратов об этом не знал, даже предвидеть не мог, как сложатся судьбы его родственников. Но на всякий случай из Усть-Сысольска он в своё время уехал. Служил в Казахстане полковым аудитором. Сегодня в Сыктывкаре на Театральной площади ему стоит памятник.
Иван Куратов писал на коми языке. Сейчас в республике пишут стихи на коми и на русском языках. Потом друг друга переводят. При этом обычно каждый считает, что его перевод значительно улучшил оригинал. Так что живём дружно. Например, один из съездов Союза писателей Республики Коми, это было в 60-х годах прошлого века, после обязательного банкета в полном составе оказался в медвытрезвителе. Покидали банкет по отдельности, а неожиданно встретились в милицейском учреждении. Решили там и открыть внеочередной писательский съезд.
Я пишу на русском языке, коми язык стал забывать уже мой отец, я знаю только несколько слов и расхожих выражений по коми — хорошего в этом мало, но факт есть факт. Русская поэзия на коми земле, как явление относительно общедоступное, а не лагерно-камерное и кухонно-герметичное, возникает в конце 50-х годов двадцатого века. Первое имя, на которое, на мой взгляд, стоит обратить внимание — Василий Журавлёв-Печорский (1930–1980). Он родился в городе Мезени Архангельской области, но детство и отрочество провёл в деревне Коровий ручей Усть-Цилемского района Коми АССР. Это места старообрядцев — здесь говорят по-русски. Здесь Василий Журавлёв-Печорский стал поэтом, стал «лирическим энциклопедистом природы Печорского севера», который исходил вдоль и поперёк. Именно ему, на мой взгляд, принадлежит точный образ судьбы северного поэта — жаворонок.
Соловьи на Севере не водятся —
Заменяют жаворонки их.
И поэтому им каждый год приходится
День и ночь работать за двоих.
Жаворонков любят северяне,
Но твердит народная молва,
Как в безмолвном утреннем тумане
Кровью орошается трава.
Ты, который рвёшься в поднебесье,
Может и твоя пришла пора?
…Сердце не выдерживает песни
и бросает птицу в клевера.
Второе знаковое имя для меня — народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. В России такое звание дают только в национальных республиках, уникальный случай, что его дали русскому поэту. В середине 80-х, каждый раз вынужден добавлять, что прошлого века, хотя, наверно, это и так понятно, Надежда Мирошниченко организовала литературное объединение «Сыктывкарская мастерская». Из него вышло много настоящих поэтов и прозаиков. Можно сказать, что это было рождение русской литературы в республике.
Как говорит она сама: «Литератор после священника — второй человек, который отвечает за нравственное состояние своего народа. Он также должен подвигнуть людей к спасению душ и своим творчеством служить этому спасению… Вера даёт масштаб мышления. С возвращением к ней для меня открылись планетарные взгляды на Россию и на площади России. Всё главное открывается через Веру».
Мне говорили: сильная!
А я бывала слабою.
Смеялись люди сытые:
Была бы лишь не бабою.
А бабою бывала я,
Поскольку истерически
Не быть в России бабою —
Не выжить исторически.
Виктор Кушманов (1939–2004) получил звание народного поэта посмертно, как часто бывает, не успели.
Его называли коми Есениным, хотя он был, конечно, не Есенин, а другой. Лишь внешне был очень похож на знаменитого рязанского пиита. Он родился в посёлке Ниашор Сысольского района Коми АССР, в нём жили спецпоселенцы, виновные, а часто и невиновные, перед советским законом. После смерти матери с 1945 по 1953 год воспитывался в детских домах. С 1973 года — член Союза писателей СССР.
Расставшись, я оставил рощу
Тебе на память. Две реки.
Одну весну. Сырую осень
Из зыбких шорохов тоски.
Оставил: праздников четыре,
Два первых снега, ливня два
И гроздь заснеженной рябины,
Чтоб не болела голова.
Приведу несколько слов о нём его друга журналиста Валерия Туркина: «Свою последнюю книжку (всего было больше десяти) назвал „Прости". У друзей сжалось сердце от дурного предчувствия. Слава Богу, прожил ещё три года. Мне подарил её с таким автографом-экспромтом: „Надеялся я и верил, /Что толстую книгу издам... /Да здравствует Туркин Валерий, /От полных краснеющий дам! /Может быть, только поэтому/ Ясная в простоте, /Понравится эта книга, Склонная к полноте!"».
Дмитрий Фролов (1957–1995) — воспитанник «Сыктывкарской мастерской» Надежды Мирошниченко. Родился в селе Тракт Княжпогостского района Коми АССР. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Был похож на лесного человека, можно сказать, лешего. У него даже есть такой цикл стихов — «Лешие». Мучительно искал истину, на какие только «духовные» собрания не ходил. В последний год жизни держал Великий пост и причащался в Православной церкви. Наш родной Коми край называл «северною вотчиной души».
Сейчас некоторые его стихи кажутся пророческими:
Моя любовь над пропастью скользит
по тоненькой и звонкой паутинке,
в случайной толчее пустых обид,
сама с собой в задорном поединке.
Весёлый и смешной эквилибрист,
скользит она, отважна и воздушна,
и солнечная прядь, как жёлтый лист,
топорщится упрямо на макушке.
К ней белые болонки-облака
боками льнут доверчиво и влажно...
Когда любовь настолько высока,
поверьте мне,
упасть
совсем не страшно!
Анатолий Илларионов (1952–2008) родился и всю жизнь прожил на станции Ираёль. Как он шутил, «Все поедут в ИзраЕль, а я поеду в ИраЕль». Работал в Ираельской дистанции пути Сосногорского отделения Северной дороги. Его прозрачными, лёгкими и в то же время глубокими стихами восхищались многие московские поэты, в частности Юрий Кузнецов. Анатолий Илларионов умер от рака. Мне довелось быть составителем его посмертной книги «Прощальный полёт».
Звёздный холод. Ночной небосвод.
Можно с Тютчевым спорить и с Блоком.
Можно верить, что все мы под Богом.
И надеяться: Бог нас спасёт.
Александр Суворов приехал в Республику Коми со станции Бира Дальневосточной железной дороги в Еврейской автономной области, точнее, его привезли родители. Отец, сын репрессированного архангельского священника, отбыл срок по известной 58-й статье и выбрал для места жительства Сыктывкар. Теперь это родина поэта Александра Суворова — навсегда.
Пустынно в вечной звёздной толкотне,
И лгут астрономические доки.
Я знаю, во вселенской тишине
Никто не слышит нас — мы одиноки.
Никто не слышит нас в бездонной мгле,
Один Господь внимает нашим вскрикам.
Но Он молчит, поскольку на земле
Всё сказано о низком и великом.
Валерий Вьюхин родился в деревне Большой Исток Череповецкого района Вологодской области. Работал бортмехаником в Коми управлении гражданской авиации. Его поэзия неразрывно связана с небом, и в то же время он напряженно размышляет о судьбе России. Куда мы летим?!
Владимир Подлузский родился в селе Рохманово Унечского района Брянской области. В Коми приехал работать журналистом. Постоянно публикуется в ведущих московских журналах, на сайте «Российский писатель». В 2012 году Владимир Подлузский издал роман в стихах «Тарас и Прасковья». За эту книгу он удостоен Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества».
Татьяна Канова прекрасно знает коми язык, но пишет стихи на русском — на русском говорит её душа. Живёт она в селе Кольёль, а работает учителем математики в селе Межадор.
На любителя
Я в городе, который не люблю
За суету, за непонятный гонор,
За выдающий снисхожденье говор,
За неуклюжесть сельскую свою,
За узловатость нехолёных рук,
Что так заметна в модных магазинах,
За умноженье в глянцевых витринах
Невзрачности, усталости и мук.
Я в городе, который мне не мил.
Взаимно, впрочем, что уж там рядиться:
Смешно мечтать, что мне он покорится.
Но ведь и он меня
не покорил.
* * *
Я родился и прожил более сорока лет в Воркуте. Андрей Попов — не очень запоминающееся имя. Это, конечно, не Лермонтов или Маяковский. Такие фамилии сразу входят в сознание и подсознание — можно даже стихи не писать. Надо было мне в своё время взять псевдоним, как это сделали Александр Серафимович или Александр Яшин, рожденные Поповыми, но поначалу не догадался, а сейчас уже поздно…
Василь Василич назывался дедом,
Но был не дед мне — знал я про обман.
Он помогал чинить велосипеды,
До станции нёс маме чемодан.
Не воевал — в тюрьме сидел, наверно,
Украл чего-то — это я решил.
В России мир… Он пил дешёвый вермут,
Чуть что ругаясь — мать твою в кувшин.
А мама говорила деду строго:
— Не матерись, здесь не пивной буфет.
И дети слышат. Ты побойся Бога!
Василич отвечал, что Бога нет.
К нему приехал за отцовской лаской
Сын из Тамбова, тридцати двух лет.
На мотоцикле новеньком с коляской
Катал родню — и вылетел в кювет.
Все живы — их на «скорой» увозили,
Среди сочувствий, вздохов и машин
Дед отряхнулся от дорожной пыли —
Ни ссадины. Вот мать твою в кувшин!
В России мир… А мы идём в больницу,
Родным несём мы яблоки и мёд.
Василич верит, хоть и матерится —
Всё будет хорошо, и Бог спасёт.
О своих предках я узнал благодаря краеведу Анне Георгиевне Малыхиной, когда мне было уже больше тридцати — меня только-только приняли в Союз писателей России.
Уже мой пра-пра-пра-пра-пра-прадед Тимофей (р.1695г.) вышел из крестьянского сословия и служил в церкви пономарём. Его дело продолжили сын Пантелеймон и внук Пётр. А правнук Алексей Куратов (1798–1845), отец первого коми поэта, был рукоположен в диаконы. У Ивана Алексеевича Куратова была сестра Антонина, она вышла замуж за иерея Константина Попова. Один из их сыновей Михаил Попов (1849–1933) стал священником Спасской церкви в селе Кибры. У протоиерея Михаила Попова было одиннадцать детей. Моего деда он назвал Модест. В Казанском соборе Санкт-Петербурга, когда ещё он служил местом для музея религии и атеизма, я видел икону святого Модеста, которого, по словам экскурсовода, просили о молитвенной помощи в сохранении здоровья домашних животных, особенно коров и лошадей. Удивительно, что мой дед окончил духовную семинарию, однако всё-таки выбрал профессию ветеринарного врача.
Мой сын Дмитрий с большим уважением относился к тому, что происходит из рода Куратовых. Его радовали и мои скромные литературные успехи, хотя увлекали компьютерные технологии, программирование. Однажды он написал стихотворение о Воркуте и подписал его Дмитрий Куратов.
От холодного эфира
У меня краснеет нос.
Воркута — столица мира,
Где морошка и мороз.
Здесь мои шагают годы,
Как гвардейские полки,
Здесь живут оленеводы
И бастуют горняки.
А на клич курортных мафий
Жить в тропическом краю
Я скажу: «Идите на фиг.
Дайте родину мою».
Что мне в Африке квартира,
Если там, как чудо, снег?!
Воркута — столица мира,
Я — столичный человек.
Больше он стихов не писал. Но обещал, что признания людей и доброй известности добьётся: «Мы же Поповы и Куратовы!».
Диму убили как-то по-азиатски дико и коварно. Таксист-кавказец угостил его кофе, в котором был подмешен сильнодействующий яд. Забрал мобильный телефон и пару тысяч рублей — и выбросил на мороз, было минус десять градусов. Когда Диму нашли, он еще некоторое время подавал признаки жизни в милицейской машине…
Скорбь моя безутешна. Уповаю, что в небесных селениях моего сына встретили многочисленные праведники из рода Куратовых и Поповых, и он обрёл с ними радость преисполненную.
В прокуратуре
Я весь седой и многогрешный —
Юн старший следователь, он
Ведёт допрос, чтоб потерпевшим
Признать меня.
Таков закон.
Рассказывает без запинки,
Придав словам суровый вид:
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.
Привычны горестные были
Для умирающей Руси:
Клауфелином отравили
И выбросили из такси.
И он замёрз.
Скупые вздохи
Кто может слышать в тёмный год?!
Замёрз от февраля эпохи
Всепобеждающих свобод.
И ни молитва, ни дублёнка
Не помогли его спасти,
И Богородицы иконка
С ним замерзала на груди.
Какую вытерпел он муку,
Не перескажет протокол!
И ангел взял его за руку,
В селенья вечные повёл.
А мне произносить с запинкой
Слова кафизм и панихид.
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.
Нет больше никаких вопросов,
И прокурор, совсем юнец,
Мне говорит, что я философ.
Я не философ, я отец.
Ах, следователь мой неспешный,
Ты не поймёшь, как я скорблю…
Я потерпевший, потерпевший.
Я потерплю.
Сейчас я живу в Сыктывкаре, тоже столица. Как говорит Надежда Мирошниченко, «столица поэзии русского Севера». Но о воркутинцах помню. Ольга Хмара через любовь к заполярному городу переосмысляет многие проблемы современной жизни. Её последняя книжка называется «Каторжанка снегов». А вот Елены Поварковой (1977–2012) уже не вернёшь...
Игорь Вавилов (1965–2011) состоял во всех мыслимых и немыслимых писательских союзах. Это его коллекционированием было. Андрей Битов, прочтя его стихи в журнале «Дружба народов», назвал их «европейскими». За три дня до смерти Игоря мы с ним вместе возвращались после работы, рассуждая о бессмертии души. Ничего не предвещало беды. Внезапный инсульт. Составлял и редактировал его посмертную книгу «Необратимость бытия».
Анатолий Пашнев (1952–2013) жил в Ухте, решил переехать в Анапу — в тёплые края. Там умер от инфаркта. На мой взгляд, был одним из лучших русских лириков. За всю жизнь издал всего две тоненьких книжки — некогда было.
И проследить длинный путь,
Словно над бездной скользя.
Как это больно вдохнуть!
Выдохнуть это нельзя…
У меня есть посвящение Анатолию Пашневу.
Если вдруг доживём до расстрела,
То поставят, товарищ, к стене
Нас не за стихотворное дело,
Нет, оно не в смертельной цене.
Мир уже не боится поэта,
И высокое слово певца
Он убьёт, словно муху, газетой,
Пожалеет на это свинца.
Для чего сразу высшая мера?
Водка справится. И нищета…
Но страшит его русская вера,
Наше исповеданье Христа.
В ней преграда его грандиозным
Измененьям умов и сердец.
И фанатикам религиозным
Уготован жестокий конец.
Вновь гулять романтической злобе,
Как метели, в родимом краю…
Если только Господь нас сподобит,
Пострадаем за веру свою.
А солдатикам трудолюбивым
Всё равно, кто поэт, кто бандит —
Не узреть им, как ангел счастливый
За спасённой душой прилетит.
Ещё одна наша неожиданная и трагичная утрата — Александр Поташёв (1971–2013). Родился в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа Архангельской области. Детские годы прошли в деревне Усть-Ижма. Жил в поселке Щельяюр Ижемского района. Это очень далеко даже от Сыктывкара, но зато там всё близко к сердцу. Стихи Саши проникнуты удивительной образностью. Он учился на Высших литературных курсах, не закончил. Приехал домой в Щельяюр и замолчал. Несколько раз обещал мне начать работать, начать писать. Обещания не сдержал. Мобильный просто отключил или выбросил. О его смерти сообщил Надежде Мирошниченко священник из Ижмы.
Несколько слов о молодых поэтах. Андрей Нитченко из Инты и Екатерина Соколова из Сыктывкара становились победителями всероссийской премии «Дебют».
Инга Карабинская из Ухты — лидер молодой поэзии республики, автор двух сборников, публиковалась в журналах «Наш современник», «Юность», «Дон». Как пишет о её творчестве Надежда Мирошниченко: «Стихи её взрывают душу состраданием и восторгом». В Ухте ещё есть Дарья Снегирёва, автор двух сборников стихов, её поэма «Детдомовец» была опубликована в «Академии Поэзии».
Теперь о моих воспитанниках из литературного объединения Союза писателей Республики Коми. Анне Чалышевой всего 21 год, но её творчество уже замечено в Москве. Она автор двух тоненьких книжечек «Дыхание» и «Письмо из апреля», публиковалась в журналах «Литературная учёба» и «Юность». В декабре 2014 года она стала лауреатом общероссийской премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, учреждённой «Литературной газетой». Выпустили свои книги и участвовали в различных, в том числе и международных, литературных семинарах Владимир Устюгов, Алексей Засыпкин, Мария Игонина. Интересные стихи пишет выпускница Сыктывкарского государственного университета Мария Размыслова, она уже публиковалась в «Литературной России» и журнале «Юность». Мне все они кажутся настоящими. Дай Бог, чтоб они состоялись.
Уже 10 лет в Сыктывкаре 21 марта во Всемирный день поэзии проходит Поэтическая эстафета — чтение стихов с утра до вечера, принимают участие только хорошие поэты — гарантирую. Приезжайте — не пожалеете.
Стихи поэтов Республики Коми
Василий Журавлёв-Печорский (1930–1980)
* * *
Родился там-то и тогда-то...
Перебирая книжный хлам,
Меня очкастые ребята
Разыщут с горем пополам.
Тире — и дальше день кончины.
Вся жизнь вошла в одну строку.
Ни состояния, ни чина,
Ни пистолета на боку.
Всю жизнь свою куда-то ехал,
Бродил в лесах родной земли...
Ещё не раз таёжным эхом
Я вам откликнусь издали.
Я стал несказанно богатым
И не во сне, а наяву,
Ведь в песне, что сложил когда-то
Ещё долгонько проживу.
Родничок
Где Пижма берёт истоки,
У каменистых круч,
Как северянин окая,
Бьёт безымянный ключ.
Тихо вначале, робко,
Ощупью,
Налегке
Он пробивает тропку
К давно замёрзшей реке.
А осмелев, ударит
С маху о толстый лёд.
Смотришь — на месте
Опарин
Заберега блеснет...
В самую лютую стужу
Разносится радостный звон...
Бьёт родничок и не тужит,
Что безымянный он.
Надежда Мирошниченко
По имени провинциалы
А мы всё равно не большие,
С какой ни гляди из сторон,
Извечные стражи России,
Хоть имя нам — не легион.
Сбегаем мы к рекам по тропам,
Проспектами тянемся мы
К завидным дорогам Европы,
К столице родимой страны.
Левша тут скучает, а Вертер
Вовсю собирается к нам.
Здесь лучший из лучшего ветер
Гуляет по всем головам.
По имени п р о в и н ц и а л ы
Мы стойко храним рубежи
Разросшейся родины малой,
Над пропастью, вставшей во ржи.
Но если мы вдруг обессилим,
С тобою что станется, Русь?
С тобою что станет, Россия?
Я даже представить боюсь.
Русский романс
Как жаль, что декабрь на дворе,
Что холодом душу свело.
Зато вся земля в серебре,
И всё-таки в мире светло.
А я унывать не люблю.
И ты меня лучше не тронь.
Я печку в дому затоплю
И буду смотреть на огонь.
Он вьётся в печурке, как вьюн.
Он тайною дышит своей.
А хочешь, я чаю налью
Покрепче, чтоб было теплей.
И может, оттаю сама
И стану, как прежде, собой.
Какая крутая зима!
Как холод кипит голубой!
Виктор Кушманов (1939–2004)
* * *
Лес вымер. Он стоит без листьев.
Засохли корни в почве. Кончен бал.
Пропитан воздух запахом больницы,
И птичий крик похож на выдох «ах».
И это «ах» последнее от птицы.
И только тень, упавшая на мох,
Напомнит нам,
Что здесь шумели листья,
И путались купальницы у ног.
И было столько чистоты и неги,
И солнца, и воды, и облаков…
Тянула лошадь медленно телегу
И фыркала от запахов цветов.
Навстречу лошади, телеге —
В платье тесном,
С корзиной ягод — ясная собой —
Шла босиком прекрасная из женщин
По той земле,
Беременная мной.
Ах, Господи!
Каким же было благом,
Ещё не появившимся на свет, —
Уже любить траву, деревья, маму
И то, чего на этом свете нет.
Любовь, которой не было
Зима кружится белая,
Зима кружится белая,
Дела мои плохи.
Любви, которой не было,
Любви, которой не было,
Опять пишу стихи.
Как песенка несмелая,
Цветет крапива серая,
А дождик льёт и льёт.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Меня с ума сведёт.
В том доме нету мебели,
Кто жил там — все уехали,
Висит пальто с прорехами,
Забыл какой-то гость.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Опять как в горле кость.
Я на таёжном севере,
На придорожном дереве,
Петлю себе примеривал,
Да затянуть не смог.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было…
Вот всё, что я сберёг.
Дмитрий Фролов (1957–1995)
* * *
В час рассветный
мы добрей и чище
Ангелов и маленьких детей,
Мы освобождения не ищем
От грехов привычных и страстей.
Синие двухъярусные шконки
«С»-образно выстроились в ряд.
Бледною лампадой под иконкой
Сквозь «ресницы» теплится заря.
Только в это время,
в час рассветный,
Постепенно сводится на нет
Люцифера свет люминесцентный —
И нисходит долу Божий Свет.
На душе и в камере не душно.
Голова молитвенно чиста.
И мерцает нам в тени подушки
Отсвет от нательного креста.
* * *
Поэт в гостях — как скверный анекдот,
рассказанный в компании пристойной:
он нецензурен, бородат и пьёт
отнюдь не чай. Беседою застольной
он давит на гостей, тем кус не лезет в глотку,
а он и рад! А он к бутылке водки
через салаты лезет напролом
и жмёт соседке ножку под столом.
Всего за час, дитя страстей и блуда,
намелет столько скверной чепухи,
что хоть беги из дома!
Ну откуда
берёт он эти светлые стихи?!
Анатолий Илларионов (1952–2008)
* * *
Лохмотья мха в пазах избушки,
Болотца здесь да озерки.
Поют печальные лягушки,
Да окликают кулики.
Здесь мне не скучно ждать рассвета,
На берегу, у костерка,
Где звёзды дребезжат от ветра
И гаснут в дебрях сосняка…
Здесь мне не очень одиноко,
И впереди ещё мой путь,
Где мне возможно верить в Бога
И в самого себя чуть-чуть.
Чёрное перо
Хруст хвои и хрипы сквозняка,
Вздох восхода.
Как с тобой проститься?
Белое перо берёт рука,
Чёрное перо роняет птица.
Я не знаю, как тебя зовут,
И по лепесткам цветов гадаю,
Что на подоконнике цветут,
Потому что уличных не знаю.
Потому что севером рождён,
Там, где сосны облака качают.
Белое перо — волшебный сон,
Чёрное перо — не поднимают.
Всем цветам приходит время цвесть,
Женщинам обычно дарят розы,
К сожаленью, все ответы есть,
Но к ответам кончились вопросы.
Хруст хвои на хриплом сквозняке.
Вздох восхода. Тишина заката.
Белое перо дрожит в руке,
Чёрное перо не виновато.
У судьбы сума есть и тюрьма,
Иногда в судьбе стихи бывают.
Нам хватает сердца и ума,
Только жизни часто не хватает.
Всё уже случалось, всё старо.
Имя я твоё не отгадаю.
Я роняю белое перо.
Чёрное перо я поднимаю.
Андрей Попов
* * *
Порой не укладывается в голове —
Почему люди маются? Чего хотят?
Как можно жить,
спеша и толкаясь, в Москве?!
Переехали бы хоть в Сергиев Посад.
Как понятней в деревне жить
иль в городке:
И в любом нелёгком,
переломном году —
Летом перед работой
искупнуться в реке,
Зимой вернуться домой
по речному льду.
И даже концы с концами сводя едва,
Полагать, что сложности у нас не впервой,
Но нельзя отступать: за нами Москва.
Москва за нами, а не мы за Москвой.
* * *
Господи, Лазарь, которого любишь Ты, болен,
Жизнь его оставляет, и это совсем не хандра…
Даруй ему исцеление — на всё лишь Твоя воля.
Он говорить не может и встать не может с одра.
Как не отчаяться, Господи! Что же Ты нас оставил?!
Умер в Вифании Лазарь. И мы умрём вместе с ним.
Как нам понять и поверить, что это не к смерти, а к славе?
Что же Ты медлишь, Господи, любящим сердцем Твоим?
* * *
Ищешь чувственною дрожью,
Смотришь в мысленный чертёж —
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!
Что ни скажешь, будет ложью,
Промолчишь — и тоже ложь.
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!
Только Господу известно,
Почему удел такой —
Сын живёт в стране небесной,
Я живу в стране земной.
Так легко смутить поэта,
Плачу я в земном краю,
Как понять мне благо это,
Правду Божью, скорбь мою?
* * *
Кто-то тайно приказы изрёк,
Кто-то свёл в напряжении скулы,
Чья-то мысль,
словно пуля, мелькнула —
И я выбран, как верный залог.
Эй, поэт, затаись между строк
И смотри в автоматное дуло!—
Гаркнет резко исчадье аула,
Палец свой положив на курок..
Я — заложник столетней беды,
Мне в лицо она весело дышит…
Праздный мир
с одобреньем услышит,
Что меня, приложив все труды,
Обменяли на сумку с гашишем
И на остров Курильской гряды.
Валерий Вьюхин
Земляника
В глухом краю заросший луг,
В его траве, как первый иней,
Белеет пятнами вокруг
Недогоревший алюминий.
Лежат белёсые листы,
Травою новой перевиты.
Кабины тёмные пусты
И так пугающе разбиты.
Их зверь подальше обойдёт,
И птица их посторонится.
Лишь грустный свет на самолёт
Уронит красная зарница.
И долго бродят по ночам
По лугу призрачные блики.
А днём земля здесь горяча,
Земля красна от земляники.
Но эти ягоды не рвут —
Их пальцы вытерпят едва ли.
Они созреют, упадут
И запекутся на дюрали.
Владимир Подлузский
Московский вечер
Густой державной зелени полоска.
У трёх вокзалов вызрела трава.
Я с высоты гостиничного лоска
Гляжу как в вечер ввинчена Москва.
Похожая на люстру из игрушек,
Подвешенных за шпили к небесам.
Со свечками соборов и церквушек,
Со страстною любовью к чудесам.
Сиреневая розовая влага
Течёт вдоль тысяч спелых фонарей.
Москва — оседлая, Москва — бродяга,
Москва — ладья для райских фонарей.
Украшенная нашими мольбами
Таинственная майская земля.
Приезжие в стекло упёрлись лбами,
Глазея на величие Кремля.
Мы не чужие в белом граде громком,
Не пыль провинций, а золотники.
Пришли в Москву
к своим прямым потомкам
Наученные ею мужики.
Игорь Вавилов (1965–2011)
* * *
Бывает тишина стихией,
Навалится — и онемеешь сам,
Окаменеешь или улетишь
Без страха в вечность...
Так летает стриж,
Невысоко, в предчувствии ненастья,
Меняя направления и часто
В себя вбивая землю,
От удара — грохочет гром,
И нити тишины становятся дождём.
Татьяна Канова
* * *
Устав, часы сочли ненужным тикать —
В оглохшем доме тихо, как в гробу.
Неспешный вечер, словно чья-то прихоть,
Неслышно пробирается в избу,
Лениво, сторонясь застывших окон,
Ложится в уголочек у печи.
Какими одиночествами соткан
Его покров? Не вызнать!
Помолчим
Вдвоём, пока ни шороха, ни света.
Озябший вечер дышит мне в лицо.
Лишь я да он.
Мне б пожалеть об этом
Да, хлопнув дверью, выйти на крыльцо,
Да закричать, завыть с тоской на пару,
Всё выплакав, по-бабьи — в три ручья,
Пойти на праздник в клуб да выдать жару!
Как кстати будет то, что я — ничья.
Что мне с того, что глупых пересудов
Деревне хватит зиму скоротать?!
Мне всё равно!
А всё-таки не буду
Ни утешать себя, ни потешать
Народ своей вечернею печалью.
Я сумерки свои перетерплю.
Как только ночь мой дом накроет шалью,
Пущу часы и печку затоплю.
* * *
Ночной звонок, нежданный в сонном доме,
Незваный гость — на свет из темноты.
И всё сошлось в калейдоскопе, кроме
Того, что гостем мне навстречу — ты.
И всё сошлось: казённая дорога,
Слепая ночь и непролазный путь,
И надо бы лопату на подмогу:
— Хозяйка, нет ли хоть какой-нибудь? —
В усталом взгляде искра удивленья. —
Неужто ты?
— Как видишь, это я!
И в сердце снова прежнее смятенье,
И отозвалось из небытия
С таким трудом сожжённое былое,
С такою болью вырванное прочь.
Зачем опять меня свели с тобою
Дорога, грязь и эта ведьма-ночь?
Ольга Хмара
* * *
Я — поэт. И мой воздух — тоска,
Можно ль выжить, о ней не поведав?
Б. Чичибабин
Котейку замучили блохи.
…Уткнувшись в плечо январю,
Сижу на обломках эпохи.
Молчу. А курить — не курю,
Поскольку неважно дружила
И с водкою, и с табаком.
С того ли с немыслимой силой
Тоска бьёт в лицо кулаком?..
Глазею безмолвно, без толку
На полки прочитанных книг.
Скажите же что-нибудь, полки!
Ответь, грандиозный старик:
Что проку от читаных книжек?
Что смысла в тугих парусах,
Когда не надеется выжить
Уже и сам Бог в небесах?!
Сей выводок — до середины…
Сей поезд крылатый — к нулю…
И с прошлым порвав, пуповина
Мастырит степенно петлю.
Метели надрывные вздохи
Доделали дело таки:
Котейку покинули блохи,
Не вынеся русской тоски.
Одесская Хатынь
Ты, память, невзначай нас, грешных, не покинь!
…Забудьте, небеса, меня, коль я забуду,
Как корчилась в огне Одесская Хатынь.
Как славила толпа кровавого Иуду.
Вкус прожитого дня и горек, и остёр.
Безбожно давит скорбь опущенные плечи.
Прими, Господь, людей, взошедших на костёр
За право вольной быть вовеки русской речи.
От крови опьянев, безумная толпа
Осанну Сатане выводит голосисто.
…О, как взываю я, чтоб в руки мне попал
Один из тех зверей, бандеровцев, фашистов…
Я — не из палачей. Беснуясь и грозя,
Не стану головы сносить его повинной.
Я просто попрошу, чтоб глянул он в глаза
Всем, у кого отнял: отца, невесту, сына…
И даже преломить ему позволю хлеб.
И прикажу смотреть в глаза беды кромешной
Ежесекундно, так, чтобы, прозрев — ослеп
От ярости людской, неплачущей, нездешней.
И в завязи плода горчи, горчи, полынь.
Осеннею порой кричи об этом мае.
Слезам не потушить Одесскую Хатынь, —
Костры вовсю горят, который твой — кто знает…
Анатолий Пашнев (1952–2013)
Ночь
Надежде Мирошниченко
Зачем в этом стылом молчанье
Повергнутых в бездну миров
Слепое твое колыханье
И тени пророческих снов?
Зачем тебе мой, человечий
Предел, когда властвует мгла,
Когда ты по самые плечи
Меня этой мглой замела?
И дышишь в лицо мне, и снова
Пускаешь под сердце змею?
Немая, ты требуешь слова
В немую корону свою.
Как ворон, кружишь надо мною,
Сжимая в когтях бытиё.
О, ночь! Ты заплатишь звездою
За каждое слово моё.
Попутчица
Трудное, трудное — все забывается.
Светлые звезды горят!
Н.Рубцов
Спутники вечные, маги дорожные,
В тёмном вагонном окне.
Южные звёзды на жемчуг похожие,
Что вы пророчите мне?
Чувствую: время летит и торопится,
И, как под топот копыт,
Юной попутчице спать не захочется.
Всё говорит, говорит.
Голос её, как ручей с переливами,
Как эти звёзды во мгле,
Мне обещает, что будут счастливыми
Люди на доброй земле.
И оттого ли, что вдруг заметелится
Светлая грусть на душе,
Может, и мне в это снова поверится,
Может быть, верю уже.
Может, и мне в эти ночи недлинные
К счастью звездой улететь,
Если в глаза её тёмные, синие
Долго, как в небо, смотреть.
Елена Поваркова (1977–2012)
Одинокий портвейн у оврага
Я сижу у реки. Лето мается.
Молча песню из горлышка пью.
Не страдается мне. Не икается...
Так же тускло, наверно, в раю.
Померла, что ль?..
Ни грустно, ни радостно.
Незабудку сжимаю в горсти...
Без тебя не до дома — до августа
Как мне, пьяной такой, доползти?
* * *
Какое счастье может быть?
Лишь понарошку и авансом.
Когда лишь боль могу любить,
Когда порок считаю шансом.
И приговоры выношу,
И устанавливаю сроки…
Когда в Твоей ночи пишу,
Бесцеремонно правлю строки
Не мной написанных стихов,
И на Твои светила вою,
И самый тяжкий из грехов
Несу, как нимб над головою.
Александр Поташев (1972–2013)
Берег
Ещё в небесной гавани Печоры
в вечернем ветре плещется заря,
и парусами сонно никнут шторы
у тихого причала ноября.
Сойду со сходней ночи
в гулком поле
и припаду к щемящей тишине,
где от костра необратимой боли
ты пламя рук протягивала мне...
Уже зима в забывчивости слепла.
Так почему ж, ослепшему вчера,
мне даже снегопад казался пеплом,
хрустальным пеплом твоего костра?
Где без конца — единое начало —
цепная ночь не сходит со двора.
Я оторвусь со своего причала
за звёздным дымом твоего костра.
И отойдёт с печальным опозданьем
от горизонта дымка птичьих стай…
Я вновь шепчу кому-то:
«До свиданья!»,
когда так надо прокричать:
«Прощай!».
Причал
Какой туман! Я снова на причале.
Паром безлюден. Мне уже пора.
А мысли, словно бабочки, сгорали,
всю ночь слетаясь к пламени костра.
Мне нравится, что тратится на брызги
его восторг у призрачной черты,
что жаждет жертвы,
что в предсмертном визге
взмывает выше собственной мечты.
Сгорю и я на этом перегоне,
Спорхну с улыбкой с вешних губ земли.
Гори, костёр, пока пасутся кони,
их звёздный зов оплачут журавли.
Гори, костёр! А по ступеням терний
небесных лестниц с шелестом дождей
восходит осень гулкою вечерней
в алтарь зари с кадильницей твоей.
Гори, костёр, пока грустит о чём-то
с причала ночь, и чудится с кормы —
топор заката в плаху горизонта
уже вошёл по рукоять зимы.
Инга Карабинская
Рукописи горят
Нынче такая зима,
как в последний раз —
Стоит ли тратить силы
в такой глуши?
Сшей мне из тёплой шерсти
десяток фраз,
Если не можешь —
бог с ним, хоть напиши.
Я здесь — легко, без надрыва,
да и к чему
Гром откровений
в краю индевелых мхов.
Знаешь, пока я слушаю тишину —
Может, навяжешь мне
потеплей стихов...
Этот глухой, безжизненный звукоряд
Лечит от всех недугов
и прошлых слёз.
...Как хорошо, что рукописи горят.
Если б не это, я бы совсем замёрз.
Голубятня
Если что от меня и останется — не ищи.
Вечность не стоит минуты сна. Бесконечность — шага.
Помнишь белую голубятню? Вот от неё ключи.
Будет легко — танцуй.
Больно — плачь.
Тяжело — кричи.
Лихом не поминай.
И вообще поминать не надо.
Если что обо мне и спросят — скажи, как есть:
Мол, отошёл на минутку к колодцу. Сказал «не ждите».
Там он — махнёшь рукою за дальний лес —
Вон до той радуги,
после — влево, потом окрест
и до самой весны, не сворачивая, идите.
Если кого и возьму с собой — то тебя.
В каждой строке, в каждой ноте отпетых с тобою песен.
Кстати, от голубятни слева не вырывай гвоздя,
Просто — да мало ли —
Всяко бывает,
Я, приходя,
Там оставляю ключи.
Не вернусь — ну, другой повесит...
Мария Игонина
* * *
Одну Бог создал из титана,
Другую вылепил из глины.
Поставил рядом, безымянных,
И подтолкнул к дороге длинной.
Одна за каждый шаг боролась,
Когда вслепую путь искала.
Другая просто шла на голос,
На песню звонкого металла.
Одна просила половину —
Ей в одиночку не согреться.
И создал добрый Бог мужчину
Для металлического сердца.
Другая молча наблюдала,
Ждала, пока они остынут,
Пока ему не станет мало
Одной, чьё сердце не из глины.
И он ушёл — к простой и тёплой,
А я подумала: «Как странно.
Бог включит дождь — она размокнет,
А мне — плевать, я из титана».
Анна Чалышева
* * *
Мне остаются одни наречья —
Только они выражают чувства.
Ты мне сказал, что ничто не вечно —
Стало тотчас же предельно пусто.
Я не люблю — я плююсь стихами.
Я не зову — я кричу и вою.
Боль моя странная не стихает,
Я не жива — но живу тобою.
Мне остаётся — смотреть и видеть,
Как умирают остатки света.
Я не могу тебя ненавидеть...
Я ненавижу тебя за это!
* * *
Я играю с судьбой
в пятнашки,
Затираю любовь до дыр.
Белый ворот твоей рубашки
Заменяет мне целый мир.
Пусть люблю я не тех и редко,
Но любовь моя — глубока.
И останется на салфетке
След от губ моих на века.
Я не верю, что мир потерян
Или Богом твоим забыт...
Слышишь, кто-то стучится в двери?..
Это — сердце моё стучит.
Дарья Снегирёва
* * *
В моё сердце по самую рукоятку
Нож вогнали (спасибо ещё, карманный).
А со мной — удивительно — всё в порядке:
Боли нет. Только в мыслях слегка туманно.
Только хочется больше всего на свете
Новый повод для встречи придумать всё же.
Например, позвонить и сказать: «Приветик.
Дорогой, я зайду — занесу твой ножик».
Владимир Устюгов
* * *
Солнце, касаясь светом
Юных ветвей запястий,
Нежно их тянет к небу.
Также и я во власти
Тихих Твоих призывов —
Пигалица на ладошке,
То подмигну шутливо,
То подбираю крошки.
А предавать бумаге
Смысла, пожалуй, нету,
Что мне нашепчет ангел
В это Господне Лето...
Мария Размыслова
Три книги
Женщина, хранящая молчанье,
Направляет в бег веретено.
Бесконечно, словно ожиданье,
Гладко, точно море, полотно.
Женщина выискивает травы,
Чтоб постигнуть тайну Семерых.
Полнолуния святое право —
Полный кубок зелья на двоих.
Женщина пролистывает память,
Ворошит золу своей тоски.
Между обгоревшими листами
Шелестят сухие лепестки.
...Это я! — в шальном чужом веселье
Взглядом разведу враждебный круг
И, в разгаре пиршества и хмеля,
Протяну тебе тяжёлый лук.
Это я! — услышав в звёздном хоре
Маятник движения планет,
Выйду в бурю к северному морю,
Где вот-вот покажется корвет.
Это я! — забыв неудержимо
Платье, дом, заветную тетрадь,
Оседлаю швабру, — и, незрима,
Вылечу в окно — тебя искать!
Так ответь мне — есть хоть капля толку
В этакой наивной ворожбе?
...Слишком много книг стоит на полке,
Слишком много мыслей о тебе.
Алексей Засыпкин
Раз в сто лет
Раз в сто лет большая стирка в домах богов,
И тогда река выходит из берегов,
Очищая душный город от дураков
И от слишком умных.
Всё, что дорого, не объяснив ничего,
Со стола земли смахнёт простым H2O,
Не считаясь с защитой систем ПВО
И систем иммунных.
Кто остался цел, идёт в ближайший лесок
И по новой выдумывает колесо,
Паровой двигатель, радио, пылесос
И, конечно, бомбу.
Но проходят боги раз в сто лет медосмотр.
Эскулап зевнёт, опорожнив небосвод.
Понесёт в тесные души потоки вод,
Прочищая тромбы.
Раз в сто лет. А чаще стоит ли прочищать?
Околев, по-птичьи снова всем верещать.
Быстрый сумрак, страх открытий, камень, праща
И тропа лесная.
Раз в сто лет. В какой бы тоге ни восседал,
Повезёт — в лесок придёшь нагишом сюда.
В моём городе так повелось навсегда,
А у вас — не знаю.
Андрей Попов (Россия, Сыктывкар)

Попов Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Автор десяти сборников стихотворений. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Север», «Арион», «Родная Ладога», «Крещатик», «Московский вестник» и других. Стихи переводились на венгерский язык. Лауреат еженедельника «Литературная Россия», премии правительства РК в области литературы имени И.А. Куратова, премии П.Суханова. Лауреат «Российского писателя» (2015), лауреат премии А. Ванеева, лауреат Южно-Уральской премии (2015), лауреат Международной литературной премии имени С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами». Живёт в Сыктывкаре.
ПОЭЗИЯ