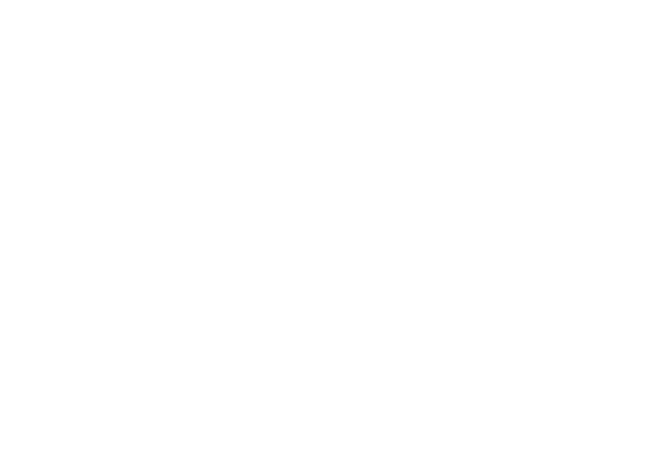Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Неотбираемое
Молчание
С бабкой — в «пятнадчик» ...кофточки из нейлона,
Килька в томате, касса, Нинель-Коза.
«Верке-то сколь — четыре? Не бает? Вона...
Надо везти в Свердловско, врачу казать».
«Вот наказанье! Ленка болтала с году.
Эта — немтырь, хоть шваркни башкою в лог».
Ленка — сестра. Большая. Котёнка в воду
Бросила с Мишкой-жирным и Колькой-Ёк.
Ленка — большая... учит: Гавана, Осло.
Пишет в тетрадке буквы — красиво, в ряд.
Лучше не вякать в мире безумных взрослых.
Вякнешь — как Ленка, будешь топить котят.
Лучше остаться мелкой... ко мне приходит
Наш домовой — Шабрёнка, сопит в подол.
Сам волосатый, но пиджачок — по моде.
Он похоронну в сорок втором нашёл —
Бает, за той иконой, на деда Стёпу.
Бает, ходил голодный, глодали жмых.
Бедный Шабрёнка... Взрослые! Враз утопал,
Две мармеладки сунул — таких больших!
Лучше остаться мелкой... болотна девка
Ночью смотрела долго в моё окно.
Банку дала — с толстущим тритоном Севкой,
Тихо шептал мне сказки и лёг на дно.
Завтра пойду к болоту, она покажет,
Где утонули дяденьки Колчака.
Кто он такой? Сказала — других не гаже.
Где он теперь? Сказала — взяла река.
Лучше остаться мелкой... сигает в руки
Плюшевый щён созвездия Гончих Псов.
Бабка сказала — старый, грязнуля, бука.
Кинула в мусор, в двери — двойной засов.
Вот он — вернулся! Ласково лижет шею...
Взрослые! В тёмном небе клочкастый мех...
Если на лапах — в Рай, на ногах — сложнее.
Если детёныш — в Рай, а взрослее — эх...
Лучше остаться мелкой. Пускай немая,
Только б такой, как Ленка-сестра, не стать.
...знаешь, а та малявка — она живая.
Только в овсяной чёлке седая прядь.
Неотбираемое
Пирожками, жёлтыми от жира,
Мячиком, билетами в кино —
В детстве я ничем не дорожила,
Знала, что отнимут всё равно.
Всхлипывала тихо в тёмных сенках:
«Обождите, вырасту, стерво...»
Ржали Мишка и сестрица Ленка,
Палачата детства моего.
Хмурила ребяческие брови,
Стыла на ветру, топтала гать.
И дошло: своё — до дна, до крови —
Никому при жизни не отнять.
Есть неотбираемое в мире,
Где в царях дурные палачи:
Бархатцы на бабкиной могиле
И окно, раскрытое в ночи.
Мой хороший, я не бью на жалость,
Вспоминая Мишку-палача:
Всё из детства:
я любить боялась,
Чтоб не отобрали, хохоча.
Нынче небо — с изморозью сито,
До зимы совсем немного дней...
Возле мёрзлых досок и калиток
Я люблю тебя ещё нежней.
Просится домой, толкает двери
Крупной головой соседский кот...
Мой хороший, можно, я поверю,
Что тебя никто не отберёт?
Ещё колыбельная
Спи, нежданный мой, нечаянный,
Спи, дурная голова.
Спят и Авели, и Каины,
Птицы, звери и трава,
Кони белые и чалые,
Щуки-окуни на дне,
Мужики, что дети малые,
Пораскинулись во сне.
Укрываю — от окошечка
Ветер дует, вот стерво...
Спит Господь — младенец-крошечка,
Ты не веруешь в Него.
Значит, мне молиться-каяться
За себя и за тебя.
Вон луна по небу катится,
Боком тучу теребя.
Отмолю грехи непрошено,
Я умею — не впервой.
Спи, нежданный мой, хороший мой,
На подушке перьевой.
А у баб-то сердце вынуто,
Чтоб хозяйство по уму,
Отоспаться — в домовине нам,
Не в натопленном дому.
Бабы — дурочки юродивы,
Оттого и непросты...
Смерть — она ведь тоже Родина:
Дым, погосты да кресты.
Спи... задрёмываю вроде бы.
До чего же дура я...
А любовь — ведь тоже Родина,
Хоть корява, да своя...
Стеша — стара дева
Грязь да известь слева,
В глине правый лацкан:
Стеша, стара дева
Горки Вороняцкой.
Серый щёки лижет,
Шибко он хороший...
Тятя-то — от грыжи,
Мамку сбила лошадь.
Севка, Галька, Петя,
Маша, Танька, Соня.
Над Вороньжей ветер,
Облака — что кони.
Три сестры да братцы,
Пара — два погодка...
Хоть к кому прижаться
По такой погодке.
Сбоку-то — Варавва,
Обнял-то — Иуда.
Мне — кормить ораву?
Ты прости, не буду.
Ягоды-то волчьи,
Нет тебе сугрева.
Отвернулась молча
Стеша — стара дева.
Лет прошло — что кочек,
Хочешь — забери их.
Марфы — двое дочек,
А одна — Мария.
Сыновей-то двое,
Пиджачок да китель:
Первый вырос — воин,
А второй-то — мытарь.
Стары девы — Богу,
Не разгульным мордам:
В дальнюю дорогу
Провожали мёртвых,
Шили-вышивали
Тихи Божьи жёнки
Кружева да шали,
Ризы да пелёнки:
Нитка — вправо-влево,
Замелькали спицы...
Стеша, стара дева
Руския землицы...
Европейскому другу
Хороша страна косолапых мишек,
Запаливших море смешных синиц —
И глядит Европа Мариной Мнишек,
Теребя манжеты своих границ.
Что, Маринка — сладко ли в русской спальне?
Не к царю бы ладилась — к королю...
Приезжай, мой друг, чужеземец дальний —
Под Николой седеньким постелю.
Побазарим вечером про Хрущёва,
Кока-колу, Бродского, силикон,
Да про тех, кого бы в мешок холщовый:
Мишку-сволочь с Борькою-синяком.
На простынке — крестики да узоры,
За окном — дорога, дворы, поля...
Почему-то русские разговоры
Не от печки пляшутся — от Кремля.
Приезжай, пока не сыграла в ящик,
Может, малость сцепимся, может, нет:
Ты орёшь — в Европах ранетки слаще,
Я — не ляжешь с дролечкой под ранет.
Расскажи, какие в Европах ситцы —
От брусничных капель в глазах рябит?
На кровати русской не шибко спится,
Умирать на ней да ещё любить.
Побазарим про лагеря-могилы,
А потом, как водится, ни о чём.
Приезжай, мой друг, чужеземец милый —
Как почуешь смерть за моим плечом...
Возвращение. Ненадолго
А рванули, Рай, за старую церковь —
Поваляемся в пахучей полыни?
Знаю, выросла, но всё-таки Верка,
И глаза всё те же — серое в синем.
Облака над нами — белая вата,
То, большое — как пузатая панда...
Знаешь, бабка говорила: когда-то
Здесь тюремщики хлебали баланду.
Здесь? А в церкви — ты не слышала, Райка?
Их гоняли по Вороньже работать,
А потом давали чёрную пайку,
Вертухаил старый дедушко Зотов.
Твой папашка не даёт алиментов,
У пивной всё ошивается бочки,
А у матери у Божией ленты,
Как у Майки, у завмаговой дочки.
Райка, бабка говорила, что ходит
Бог невидимо по улицам нашим.
Подсказал бы, что помрёшь через годик —
Заплатил бы, может, пьяный папаша.
Райка, в церкви, говорят, Бога нету —
Там цемент, горбыль, щелястые доски,
И четыре или пять вагонеток,
А святых-то забелили извёсткой.
Не извёстка — так залезть, поглядеть-ко,
Говорят, святые были — как мы же,
Ну не все, а третья часть — малолетки,
Кто в огне и на кресте-то не выжил.
Хорошо лежать в полыни и кашке,
Да пора мне уходить из июля.
Ты смотри, не перепачкай рубашку,
Божья Матерь заругает — грязнуля.
Мне ведь, Райка, сороковник — хренею,
А тебе осталось ровно двенадцать.
Мы обнимемся по-детски — за шею,
Я приду ещё... пора расставаться...
Полетела? Ну, счастливой дороги.
Я стою, и перехвачено горло.
Ты спроси там, Рай, у Господа Бога:
Можно сделать, чтобы дети не мёрли?
У тубера
Свернула нынче к тубдиспансеру:
Вон дворник Вася — постарел.
Мороз покрыл деревья панцирем,
Засыпал спины пустырей,
Да Васе-то с дебилкой Иркою
Всё пофиг: живо разгребём...
Три бывших зэка в окна зыркают,
Дыша последним январём.
Когда-то — едено да плясано,
Подколото: не суйся, тварь,
Полёжано в кустах под насыпью,
А нынче — кашель и январь.
С больничек, брат,
с казённых шконочек
Без шмона пропускают в рай...
«Эй, Ирка! Шляться будешь до ночи?
Комки-то в кучу собирай,
Как догребешь, пойдём полечимся,
Перловочкой закусим, бля...»
У пищеблока две буфетчицы,
Халаты запахнув, смолят.
«На, Ирка, докури-побалуйся,
Да нам посуду прибери...»
И всё в округе просит жалости:
Деревья, стены, снегири,
И передачи с трёх до вечера,
Часов примерно до шести...
(«С чем пирожки, маманя? С печенью?
Не бойсь, нетрудно отнести...»)
Кефир с конфетками желейными
(«Тому, Андрееву — плеврит...»)
Ах, Русь моя, страна жалельная —
К тем, кто убивец и убит.
Пойду отсюда — запорошена,
Скользя под ветками рябин...
...ты пожалей меня, хороший мой —
И можешь даже не любить...
Русский идиш
Ах, Дора-Дора... Бабка приходила
К тебе стирать и вычистить ножи.
Что за кривая, дьявольская сила
Меня за ней тащила, подскажи?
Ах, Дора-Дора... Зяма Моисеич...
Три шкафа книг, корица в порошке.
Я скоро научилась: «Шпрехен дейич» —
И Зяма гладил по льняной башке.
Ах, Зяма-Зяма... «Детка, алеф, гимель.
Вот это — бейз... ну, хватит на сейчас.
Я там тебе на кухне грушу вымыл,
Ты с семечкой не ешь, как в прошлый раз».
Стекло чекушки пело на иврите,
На идише шуршал в углу мизгирь.
«Вы, Дора Афанасьевна, скажите,
Чтоб муж-то Верке не дурил мозги:
Вам яблоки, а нам-то хватит брюквы...
Халат стирать? Запачкалась тесьма...»
Но как похоже вспыхивали буквы
Еврейского и русского письма,
Когда сливались в строки и абзацы
О бухенвальдском пепле и золе,
И о пожарах, что ночами снятся
Бревенчатой берёзовой земле.
Ах, Дора-Дора, что ты в книге видишь?
Ах, Зяма-Зяма, в чём ты видишь свет?
...а Васька-вор орал почти на идиш
Про хипес и вонючий марафет.
Такие на Калухе жили воры,
Что не приснятся в самом страшном сне...
Ах, Зяма-Зяма, схоронил ты Дору:
В Россию закопали по весне.
Мне было восемнадцать. Нынче сорок.
Нерусской не бывала я ни дня,
Но помню: алеф, гимель — будто морок,
И буквам догорать — внутри меня.
Я помню всё: умерших и убитых,
Мозоли на руках и снег виска,
И всё глядит из крашеных калиток
Глазастая еврейская тоска...
Не оставь
В этом теле — минимум три души, и у каждой больше семи путей. Первой прямо в руки
плывут ерши: хороша уха для её детей. Ей с работы мужа-губана ждать, греть ведерный чайник —
с вареньем пей, и горбатых ландышей-жеребят запрягать в тележку неспешных дней. На святую
Пасху рядиться в шёлк, красоваться — в ушках блестит рыжьё. Если вдруг заявится серый волк —
за белёной печкой лежит ружьё.
У второй — в шатре конопля и плов, а её слова — золотой шербет. За неё Иаков служить
готов восемь раз по восемь пастушьих лет. Запоёт псалмы — и заплачет полк: рядовые — Сим, и
Яфет, и Хам. Ей не страшен даже тамбовский волк — слушать песни ляжет к её ногам.
А у третьей — кинь, и выходит клин, вместо крыш и лавок — одни горбы. Ей в ладони
плачет пяток рябин и дубок у крайней кривой избы: за живых и тех, кто уже ушёл, за Васятку —
мать заспала мальца, за Степана с заворотом кишок, за Никиту — он заменил отца. Всё бы славно,
если б не три по сто, а потом пивка, а потом базлать. Третьей слышать: «нету для вас местов»,
«убирайся», «дурочка», «не со зла» ...Третьей — с детства спать на краю крутом: у дощатой
стенки сопит сестра. Серый волк-волчок залезает в дом, под лунищей шкура его пестра. Это сон, а
может, лихая явь: подойдет и сцапает за бочок...
Ты вот эту девочку — не оставь. Ей не выжить, если придёт волчок.
Почтальонка Бронька
Сказки слаще давней были, только сказки — не о том... Почтальонку не любили в сорок
первом и втором. «Похоронны, знать, у Броньки — ох, пропали мужики...» Их не звали
«похоронки» — слишком были велики. Брали бабы жёлтый листик, кто молчал, а кто базлал.
Кулаками била Христя Броньку с горя — не со зла.
Где порвётся, там и тонко. Глядь — в ладони пустота. В сорок третьем почтальонка померла
от живота. «Тань, пошарься за иконой... подоконник-то в пыли...» Восемь рваных похоронных под
окутками нашли. Шапку снял Семёнко Белый: «Ох ты, Бронька, ё-моё. То ль себя она жалела, то
ли глупое бабьё».
Всё б ничо, да дура Олька — погрешили на вино — утром баяла в посёлке: Броньку видела в
окно. Сумка сбоку-та, казенна, гребнем месяц молодой, восемь рваных похоронных вместо
крыльев за спиной. «Не бывать такому делу». «Не мути, знатка, народ». Только Христя заревела
первый раз за целый год. Только видят всё же Броню в огородах, в камышах: восемь рваных
похоронных за лопатками шуршат. С каждым годом крылья шире, суше, сгорбленней спина...
Ей ходить, покуда в мире не закончится война.
Метки
Вечер. Затихли орущие дети,
Больше не хочется лезть напролом.
Звёзды Кремлевские в горницы светят,
Тихо горят над российским селом.
Вот — замерцала, упала, погасла,
Чуть зашипела в вечерней росе...
В сумерках бабки судачат у прясла:
«Наши-те главные мечены все.
Сталин рябой, у Хрущева Никитки
Между лопаток четыре пятна.
Брежнев почище, да брови не жидки.
Меченый Мишка — вот был сатана!
Бают, что хвост у евонной-то Райки
И с черепушкой кольцо на руке...»
Смотрит Отрепьев из чёрной сарайки —
Две бородавки на лбу и щеке.
Бают про меченых бабки-соседки
С вечным припевом — хоть нету войны.
Маленькой Родиной — родинкой, меткой
Дремлет село на предплечье страны.
Тянет из кухни на улицу сдобой,
Сонный в сарайке гагакает гусь.
Баюшки, Путины-Ленины-Кобы —
Метки страны по прозванию Русь.
Спит — под пальтишком в зелёную клетку,
Слушая звезды, старух, ковыли,
Русь — золотистая крупная метка
На крутолобой мордахе Земли.
Иван Долгорукий
На Москве — пироги да баньки,
Да вороний хрипатый крик.
Камергер Долгорукий Ванька
Поправляет крутой парик.
«Чо, куда подадимся ноне?
Ваш-величество, слышишь, ась?
Девок мять?» — и рванули кони,
Вороная лихая масть.
В баньке кушает блин скоромный
Редкозубый седой кощей...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
Мне — сисясту, ему — тощей.»
На Москве — от свечного воска
В старой церкви лоснится пол.
«У царя-то, гутарят, воспа».
«Брешешь — немец его извёл».
Вынимает кощей просвирку,
Ест глазами святой покров...
У Ивана — в ботфорте дырка,
У царя — на перине шов.
Бьётся в жилочке подъяремной
Кровь Романовых — ох, горька...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я —
Холодеет его рука.»
На Москве — галуны-награды,
Драный зад и худой доход.
Выше влезешь — больнее падать
Мордой в клюкву сырых болот.
Ох, Берёзов — промёрзлы стены,
Тишь могильная, синева.
Злой кощей не сбавляет цену,
Хороши у него дрова.
«Сколь я выпил вчерась? Не помню...
Блазнит что-то: Москва, поля...»
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
В кабаке пировали, бля...»
На Москве — армячишко новый
Снял с купца полунощный люд.
«Слышь, помалкивай.
Скажешь слово —
Сразу дело тебе пришьют».
Кнут наладил кощей гугнявый,
Тянет лапы к Ивану, в глушь:
Умирать — есть такое право
На Москве — на Руси, Ванюш.
На дороге навоза комья,
Площадей не видать во мгле.
«Где ты Ванечка?» — «Со царем я.
Во московской сырой земле...»
Молчание
С бабкой — в «пятнадчик» ...кофточки из нейлона,
Килька в томате, касса, Нинель-Коза.
«Верке-то сколь — четыре? Не бает? Вона...
Надо везти в Свердловско, врачу казать».
«Вот наказанье! Ленка болтала с году.
Эта — немтырь, хоть шваркни башкою в лог».
Ленка — сестра. Большая. Котёнка в воду
Бросила с Мишкой-жирным и Колькой-Ёк.
Ленка — большая... учит: Гавана, Осло.
Пишет в тетрадке буквы — красиво, в ряд.
Лучше не вякать в мире безумных взрослых.
Вякнешь — как Ленка, будешь топить котят.
Лучше остаться мелкой... ко мне приходит
Наш домовой — Шабрёнка, сопит в подол.
Сам волосатый, но пиджачок — по моде.
Он похоронну в сорок втором нашёл —
Бает, за той иконой, на деда Стёпу.
Бает, ходил голодный, глодали жмых.
Бедный Шабрёнка... Взрослые! Враз утопал,
Две мармеладки сунул — таких больших!
Лучше остаться мелкой... болотна девка
Ночью смотрела долго в моё окно.
Банку дала — с толстущим тритоном Севкой,
Тихо шептал мне сказки и лёг на дно.
Завтра пойду к болоту, она покажет,
Где утонули дяденьки Колчака.
Кто он такой? Сказала — других не гаже.
Где он теперь? Сказала — взяла река.
Лучше остаться мелкой... сигает в руки
Плюшевый щён созвездия Гончих Псов.
Бабка сказала — старый, грязнуля, бука.
Кинула в мусор, в двери — двойной засов.
Вот он — вернулся! Ласково лижет шею...
Взрослые! В тёмном небе клочкастый мех...
Если на лапах — в Рай, на ногах — сложнее.
Если детёныш — в Рай, а взрослее — эх...
Лучше остаться мелкой. Пускай немая,
Только б такой, как Ленка-сестра, не стать.
...знаешь, а та малявка — она живая.
Только в овсяной чёлке седая прядь.
Неотбираемое
Пирожками, жёлтыми от жира,
Мячиком, билетами в кино —
В детстве я ничем не дорожила,
Знала, что отнимут всё равно.
Всхлипывала тихо в тёмных сенках:
«Обождите, вырасту, стерво...»
Ржали Мишка и сестрица Ленка,
Палачата детства моего.
Хмурила ребяческие брови,
Стыла на ветру, топтала гать.
И дошло: своё — до дна, до крови —
Никому при жизни не отнять.
Есть неотбираемое в мире,
Где в царях дурные палачи:
Бархатцы на бабкиной могиле
И окно, раскрытое в ночи.
Мой хороший, я не бью на жалость,
Вспоминая Мишку-палача:
Всё из детства:
я любить боялась,
Чтоб не отобрали, хохоча.
Нынче небо — с изморозью сито,
До зимы совсем немного дней...
Возле мёрзлых досок и калиток
Я люблю тебя ещё нежней.
Просится домой, толкает двери
Крупной головой соседский кот...
Мой хороший, можно, я поверю,
Что тебя никто не отберёт?
Ещё колыбельная
Спи, нежданный мой, нечаянный,
Спи, дурная голова.
Спят и Авели, и Каины,
Птицы, звери и трава,
Кони белые и чалые,
Щуки-окуни на дне,
Мужики, что дети малые,
Пораскинулись во сне.
Укрываю — от окошечка
Ветер дует, вот стерво...
Спит Господь — младенец-крошечка,
Ты не веруешь в Него.
Значит, мне молиться-каяться
За себя и за тебя.
Вон луна по небу катится,
Боком тучу теребя.
Отмолю грехи непрошено,
Я умею — не впервой.
Спи, нежданный мой, хороший мой,
На подушке перьевой.
А у баб-то сердце вынуто,
Чтоб хозяйство по уму,
Отоспаться — в домовине нам,
Не в натопленном дому.
Бабы — дурочки юродивы,
Оттого и непросты...
Смерть — она ведь тоже Родина:
Дым, погосты да кресты.
Спи... задрёмываю вроде бы.
До чего же дура я...
А любовь — ведь тоже Родина,
Хоть корява, да своя...
Стеша — стара дева
Грязь да известь слева,
В глине правый лацкан:
Стеша, стара дева
Горки Вороняцкой.
Серый щёки лижет,
Шибко он хороший...
Тятя-то — от грыжи,
Мамку сбила лошадь.
Севка, Галька, Петя,
Маша, Танька, Соня.
Над Вороньжей ветер,
Облака — что кони.
Три сестры да братцы,
Пара — два погодка...
Хоть к кому прижаться
По такой погодке.
Сбоку-то — Варавва,
Обнял-то — Иуда.
Мне — кормить ораву?
Ты прости, не буду.
Ягоды-то волчьи,
Нет тебе сугрева.
Отвернулась молча
Стеша — стара дева.
Лет прошло — что кочек,
Хочешь — забери их.
Марфы — двое дочек,
А одна — Мария.
Сыновей-то двое,
Пиджачок да китель:
Первый вырос — воин,
А второй-то — мытарь.
Стары девы — Богу,
Не разгульным мордам:
В дальнюю дорогу
Провожали мёртвых,
Шили-вышивали
Тихи Божьи жёнки
Кружева да шали,
Ризы да пелёнки:
Нитка — вправо-влево,
Замелькали спицы...
Стеша, стара дева
Руския землицы...
Европейскому другу
Хороша страна косолапых мишек,
Запаливших море смешных синиц —
И глядит Европа Мариной Мнишек,
Теребя манжеты своих границ.
Что, Маринка — сладко ли в русской спальне?
Не к царю бы ладилась — к королю...
Приезжай, мой друг, чужеземец дальний —
Под Николой седеньким постелю.
Побазарим вечером про Хрущёва,
Кока-колу, Бродского, силикон,
Да про тех, кого бы в мешок холщовый:
Мишку-сволочь с Борькою-синяком.
На простынке — крестики да узоры,
За окном — дорога, дворы, поля...
Почему-то русские разговоры
Не от печки пляшутся — от Кремля.
Приезжай, пока не сыграла в ящик,
Может, малость сцепимся, может, нет:
Ты орёшь — в Европах ранетки слаще,
Я — не ляжешь с дролечкой под ранет.
Расскажи, какие в Европах ситцы —
От брусничных капель в глазах рябит?
На кровати русской не шибко спится,
Умирать на ней да ещё любить.
Побазарим про лагеря-могилы,
А потом, как водится, ни о чём.
Приезжай, мой друг, чужеземец милый —
Как почуешь смерть за моим плечом...
Возвращение. Ненадолго
А рванули, Рай, за старую церковь —
Поваляемся в пахучей полыни?
Знаю, выросла, но всё-таки Верка,
И глаза всё те же — серое в синем.
Облака над нами — белая вата,
То, большое — как пузатая панда...
Знаешь, бабка говорила: когда-то
Здесь тюремщики хлебали баланду.
Здесь? А в церкви — ты не слышала, Райка?
Их гоняли по Вороньже работать,
А потом давали чёрную пайку,
Вертухаил старый дедушко Зотов.
Твой папашка не даёт алиментов,
У пивной всё ошивается бочки,
А у матери у Божией ленты,
Как у Майки, у завмаговой дочки.
Райка, бабка говорила, что ходит
Бог невидимо по улицам нашим.
Подсказал бы, что помрёшь через годик —
Заплатил бы, может, пьяный папаша.
Райка, в церкви, говорят, Бога нету —
Там цемент, горбыль, щелястые доски,
И четыре или пять вагонеток,
А святых-то забелили извёсткой.
Не извёстка — так залезть, поглядеть-ко,
Говорят, святые были — как мы же,
Ну не все, а третья часть — малолетки,
Кто в огне и на кресте-то не выжил.
Хорошо лежать в полыни и кашке,
Да пора мне уходить из июля.
Ты смотри, не перепачкай рубашку,
Божья Матерь заругает — грязнуля.
Мне ведь, Райка, сороковник — хренею,
А тебе осталось ровно двенадцать.
Мы обнимемся по-детски — за шею,
Я приду ещё... пора расставаться...
Полетела? Ну, счастливой дороги.
Я стою, и перехвачено горло.
Ты спроси там, Рай, у Господа Бога:
Можно сделать, чтобы дети не мёрли?
У тубера
Свернула нынче к тубдиспансеру:
Вон дворник Вася — постарел.
Мороз покрыл деревья панцирем,
Засыпал спины пустырей,
Да Васе-то с дебилкой Иркою
Всё пофиг: живо разгребём...
Три бывших зэка в окна зыркают,
Дыша последним январём.
Когда-то — едено да плясано,
Подколото: не суйся, тварь,
Полёжано в кустах под насыпью,
А нынче — кашель и январь.
С больничек, брат,
с казённых шконочек
Без шмона пропускают в рай...
«Эй, Ирка! Шляться будешь до ночи?
Комки-то в кучу собирай,
Как догребешь, пойдём полечимся,
Перловочкой закусим, бля...»
У пищеблока две буфетчицы,
Халаты запахнув, смолят.
«На, Ирка, докури-побалуйся,
Да нам посуду прибери...»
И всё в округе просит жалости:
Деревья, стены, снегири,
И передачи с трёх до вечера,
Часов примерно до шести...
(«С чем пирожки, маманя? С печенью?
Не бойсь, нетрудно отнести...»)
Кефир с конфетками желейными
(«Тому, Андрееву — плеврит...»)
Ах, Русь моя, страна жалельная —
К тем, кто убивец и убит.
Пойду отсюда — запорошена,
Скользя под ветками рябин...
...ты пожалей меня, хороший мой —
И можешь даже не любить...
Русский идиш
Ах, Дора-Дора... Бабка приходила
К тебе стирать и вычистить ножи.
Что за кривая, дьявольская сила
Меня за ней тащила, подскажи?
Ах, Дора-Дора... Зяма Моисеич...
Три шкафа книг, корица в порошке.
Я скоро научилась: «Шпрехен дейич» —
И Зяма гладил по льняной башке.
Ах, Зяма-Зяма... «Детка, алеф, гимель.
Вот это — бейз... ну, хватит на сейчас.
Я там тебе на кухне грушу вымыл,
Ты с семечкой не ешь, как в прошлый раз».
Стекло чекушки пело на иврите,
На идише шуршал в углу мизгирь.
«Вы, Дора Афанасьевна, скажите,
Чтоб муж-то Верке не дурил мозги:
Вам яблоки, а нам-то хватит брюквы...
Халат стирать? Запачкалась тесьма...»
Но как похоже вспыхивали буквы
Еврейского и русского письма,
Когда сливались в строки и абзацы
О бухенвальдском пепле и золе,
И о пожарах, что ночами снятся
Бревенчатой берёзовой земле.
Ах, Дора-Дора, что ты в книге видишь?
Ах, Зяма-Зяма, в чём ты видишь свет?
...а Васька-вор орал почти на идиш
Про хипес и вонючий марафет.
Такие на Калухе жили воры,
Что не приснятся в самом страшном сне...
Ах, Зяма-Зяма, схоронил ты Дору:
В Россию закопали по весне.
Мне было восемнадцать. Нынче сорок.
Нерусской не бывала я ни дня,
Но помню: алеф, гимель — будто морок,
И буквам догорать — внутри меня.
Я помню всё: умерших и убитых,
Мозоли на руках и снег виска,
И всё глядит из крашеных калиток
Глазастая еврейская тоска...
Не оставь
В этом теле — минимум три души, и у каждой больше семи путей. Первой прямо в руки
плывут ерши: хороша уха для её детей. Ей с работы мужа-губана ждать, греть ведерный чайник —
с вареньем пей, и горбатых ландышей-жеребят запрягать в тележку неспешных дней. На святую
Пасху рядиться в шёлк, красоваться — в ушках блестит рыжьё. Если вдруг заявится серый волк —
за белёной печкой лежит ружьё.
У второй — в шатре конопля и плов, а её слова — золотой шербет. За неё Иаков служить
готов восемь раз по восемь пастушьих лет. Запоёт псалмы — и заплачет полк: рядовые — Сим, и
Яфет, и Хам. Ей не страшен даже тамбовский волк — слушать песни ляжет к её ногам.
А у третьей — кинь, и выходит клин, вместо крыш и лавок — одни горбы. Ей в ладони
плачет пяток рябин и дубок у крайней кривой избы: за живых и тех, кто уже ушёл, за Васятку —
мать заспала мальца, за Степана с заворотом кишок, за Никиту — он заменил отца. Всё бы славно,
если б не три по сто, а потом пивка, а потом базлать. Третьей слышать: «нету для вас местов»,
«убирайся», «дурочка», «не со зла» ...Третьей — с детства спать на краю крутом: у дощатой
стенки сопит сестра. Серый волк-волчок залезает в дом, под лунищей шкура его пестра. Это сон, а
может, лихая явь: подойдет и сцапает за бочок...
Ты вот эту девочку — не оставь. Ей не выжить, если придёт волчок.
Почтальонка Бронька
Сказки слаще давней были, только сказки — не о том... Почтальонку не любили в сорок
первом и втором. «Похоронны, знать, у Броньки — ох, пропали мужики...» Их не звали
«похоронки» — слишком были велики. Брали бабы жёлтый листик, кто молчал, а кто базлал.
Кулаками била Христя Броньку с горя — не со зла.
Где порвётся, там и тонко. Глядь — в ладони пустота. В сорок третьем почтальонка померла
от живота. «Тань, пошарься за иконой... подоконник-то в пыли...» Восемь рваных похоронных под
окутками нашли. Шапку снял Семёнко Белый: «Ох ты, Бронька, ё-моё. То ль себя она жалела, то
ли глупое бабьё».
Всё б ничо, да дура Олька — погрешили на вино — утром баяла в посёлке: Броньку видела в
окно. Сумка сбоку-та, казенна, гребнем месяц молодой, восемь рваных похоронных вместо
крыльев за спиной. «Не бывать такому делу». «Не мути, знатка, народ». Только Христя заревела
первый раз за целый год. Только видят всё же Броню в огородах, в камышах: восемь рваных
похоронных за лопатками шуршат. С каждым годом крылья шире, суше, сгорбленней спина...
Ей ходить, покуда в мире не закончится война.
Метки
Вечер. Затихли орущие дети,
Больше не хочется лезть напролом.
Звёзды Кремлевские в горницы светят,
Тихо горят над российским селом.
Вот — замерцала, упала, погасла,
Чуть зашипела в вечерней росе...
В сумерках бабки судачат у прясла:
«Наши-те главные мечены все.
Сталин рябой, у Хрущева Никитки
Между лопаток четыре пятна.
Брежнев почище, да брови не жидки.
Меченый Мишка — вот был сатана!
Бают, что хвост у евонной-то Райки
И с черепушкой кольцо на руке...»
Смотрит Отрепьев из чёрной сарайки —
Две бородавки на лбу и щеке.
Бают про меченых бабки-соседки
С вечным припевом — хоть нету войны.
Маленькой Родиной — родинкой, меткой
Дремлет село на предплечье страны.
Тянет из кухни на улицу сдобой,
Сонный в сарайке гагакает гусь.
Баюшки, Путины-Ленины-Кобы —
Метки страны по прозванию Русь.
Спит — под пальтишком в зелёную клетку,
Слушая звезды, старух, ковыли,
Русь — золотистая крупная метка
На крутолобой мордахе Земли.
Иван Долгорукий
На Москве — пироги да баньки,
Да вороний хрипатый крик.
Камергер Долгорукий Ванька
Поправляет крутой парик.
«Чо, куда подадимся ноне?
Ваш-величество, слышишь, ась?
Девок мять?» — и рванули кони,
Вороная лихая масть.
В баньке кушает блин скоромный
Редкозубый седой кощей...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
Мне — сисясту, ему — тощей.»
На Москве — от свечного воска
В старой церкви лоснится пол.
«У царя-то, гутарят, воспа».
«Брешешь — немец его извёл».
Вынимает кощей просвирку,
Ест глазами святой покров...
У Ивана — в ботфорте дырка,
У царя — на перине шов.
Бьётся в жилочке подъяремной
Кровь Романовых — ох, горька...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я —
Холодеет его рука.»
На Москве — галуны-награды,
Драный зад и худой доход.
Выше влезешь — больнее падать
Мордой в клюкву сырых болот.
Ох, Берёзов — промёрзлы стены,
Тишь могильная, синева.
Злой кощей не сбавляет цену,
Хороши у него дрова.
«Сколь я выпил вчерась? Не помню...
Блазнит что-то: Москва, поля...»
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
В кабаке пировали, бля...»
На Москве — армячишко новый
Снял с купца полунощный люд.
«Слышь, помалкивай.
Скажешь слово —
Сразу дело тебе пришьют».
Кнут наладил кощей гугнявый,
Тянет лапы к Ивану, в глушь:
Умирать — есть такое право
На Москве — на Руси, Ванюш.
На дороге навоза комья,
Площадей не видать во мгле.
«Где ты Ванечка?» — «Со царем я.
Во московской сырой земле...»
Вера Кузьмина

Родилась в Каменске-Уральском Свердловской области в 1975 году. Живу там же. Работаю участковым фельдшером. Стихи пишу с 2011 года. Публикуюсь в Инете. Ничего особенного из себя не представляю.
ПОЭЗИЯ