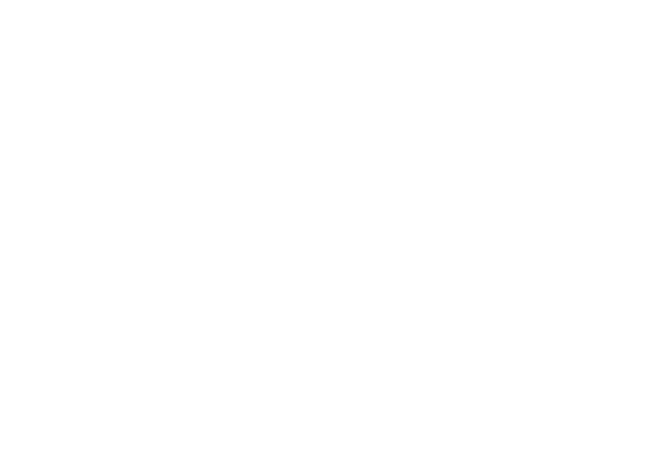Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
I
Домофон, омерзительно фальшивя своим электронным голоском, уже три-четыре раза успел пропищать записанные в память такты из «Нам каждый гость дарован богом», прежде чем Мавр продрал глаза, сел, сунул ноги в тапочки и прошлёпал к двери. «Небось, граф Соллогуб с Гонсиорским всякий раз при таком исполнении ворочаются, кряхтя, в гробах, давно пора мелодию сменить», — привычно подумал он и посмотрел на экран монитора. В нижнем правом углу было обозначено время: двадцать минут второго. Значит, он не проспал и получаса.
На крыльце застыли трое. В одинаковых долгополых чёрных плащах и фетровых шляпах. «Людей в чёрном» насмотрелись, что ли? Не ОМОН, конечно, и не прочие «маски-шоу» — те и звонить бы не стали, а попросту высадили двери. Но тех Мавр не боялся: и какая-никакая линия обороны на всякий случай создана, и путь отхода проложен, да и вообще они ничего бы не могли ему предъявить. А вот эти… Чего-то подобного он давно уже втайне побаивался. И от них явно исходила эманация опасности. Опасности и силы. Что же, придётся впустить. Никто не может избежать неизбежного.
Он нажал кнопку, бросил: «Прошу!» — открыл дверь и встал на пороге, потуже затянув пояс халата. Вполне подходящее облачение. Не мог же он ждать гостей в столь неурочный для визитов час. И пока поднимается лифт, ему как раз хватит времени произнести нужные слова.
Когда троица вышла на площадку, он жестом пригласил их в квартиру и, как положено хозяину, принял плащи и шляпы. Всё это в полном безмолвии: молчание — самая выигрышная политика, пусть начинают они. Вслед за хозяином незваные гости прошли в гостиную. Обведя ее рукой — мол, будьте как дома — Мавр опустился в привычное кресло и только теперь позволил себе как следует их рассмотреть.
Вытянутое, аристократическое лицо того, что постарше и повыше ростом, украшала ухоженная ван-дейковская бородка, чуть более тёмная, чем каштановые волосы. Двое других были гладко выбриты: блондин — до поросячьей розовости щек, брюнет — до синевы. Они тоже расселись — двое по концам дивана, старший в кресле, образовав перед Мавром почти правильный прямоугольный треугольник. Наконец старший прервал молчание:
— Простите, я должен убедиться: имеем ли мы честь говорить с господином Брейко? Если полностью, Маврикием Викентьевичем Брейко?
Мавр кивнул.
— Что же, тогда всё правильно. Вы-то нам и нужны.
— Хотел бы я сказать то же самое, — улыбнулся Мавр.
— Позвольте представиться, как того требует элементарная вежливость, — продолжил старший. — Это — доктор Гаспар Арнери из Миланской академии, — брюнет чуть привстал и коротко кивнул. — Рядом с ним — доктор Бальтазар Блейк из Атланты, независимый исследователь, — Блейк в точности повторил движения коллеги. — Ну а ваш покорный слуга — доктор Мельхиор Савицкий из Варшавского коллегиума.
— Два очевидных псевдонима, — заметил Мавр. — Светлый маг из «Ученика чародея» и доктор-кудесник из «Трёх толстяков». Впрочем, подлинные имена меня не интересуют. Хотя ваше, — он чуть поклонился Савицкому, — производит впечатление подлинности. Уж не из тех ли иезуитов? Или из маршалов?
— Из тех, — в голосе гостя прозвучала затаённая гордость. — Воевода брестский был одним из моих пращуров.
— Можно было бы, конечно, сказать, будто рад знакомству, но как-то не получается. И с чем пожаловала ваша особая тройка? Для избиения младенца?
— Дефиниция неточна, коллега. Мы не враги или обвинители. Нам поручено разобраться. Объективно.
— Кем?
— Ну, скажем… неким сообществом. Перед вами суд, а не специалисты по бессудным расправам. Три непременных члена: доктор Балтазар — прокурор, доктор Гаспар — адвокат…
— А вы — судья.
— Да. Но всё это не мешает откровенному разговору. Считайте пока, что перед вами просто трое старших и многоопытных коллег.
— Отчего ж и не поговорить, — легко согласился Мавр. — С чего начнём?
— С самого начала.
II
А с чего, собственно, началось? С находки? Нет. С тётки Агафьи? Тоже нет. Раньше. Много раньше. Можно сказать, изначально. С имени.
У матери была прабабка, Мавра Агафоновна, которой та отродясь не видела — старушка отошла в мир иной задолго до появления мамы на свет. Но в семье ходили прямо-таки фантастические легенды о властности, мудрости, прозорливости и вообще бесчисленных талантах прабабушки Мавры. И когда матушка произвела на свет первенца (а как оказалось впоследствии, единственного потомка, потому как при родах что-то там такое приключилось), семейство дружно убедило и чуть ли не приневолило её в честь пра-прабабки назвать сына Маврикием. В детстве его это нимало не смущало. Ну, «Маврик, туда!», «Маврик, сюда!», «Маврик, ешь!» — какая ему, Маврику, разница? Но вот когда он пошёл в школу… Впрочем, имени он был и благодарен: оно научило драться. Жестоко. Не ждать, когда на тебя обрушатся, а при малейшей угрозе бить первым — и любой ценой доводить до победного конца. Тактика оказалась правильной: после того, как троим наиболее злобным насмешникам пришлось хорошенько поразмыслить на больничных койках, Маврюша-Хрюша растаял без следа. На смену ему пришло уважительное «Мавр».
А потом имя стало ему даже нравиться. В университете он заливал доверчивым дурехам, что является плодом бурного романа своей матушки с неким пылким французом, а поскольку случилось это на острове Маврикий, его в честь оного клочка суши и нарекли. Девицы харчили байку с чавканьем — было это в те годы, когда русские на Маврикии встречались чуть чаще мамонтов. Для себя же он провёл небольшое расследование и выяснил, что, например, святой Маврикий, вроде бы живший во втором-третьем веках, считается покровителем рыцарей, а с именем его как-то связаны и легендарное Копьё Судьбы, и меч — один из главных символов Священной Римской империи. А еще был византийский базилевс Флавий Маврикий Тиберий Август, неустрашимый воитель, сокрушитель персов и аваров, в чьё правление империя ещё имела сильное сходство с античным Римом.
Тем временем Мавр успешно окончил филфак по специальности «флюктуативная филология», хотя по сей день не понимал, что это за зверь. В придачу к диплому он вынес знание четырёх языков — английского, французского, латыни и греческого, что впоследствии пригодилось куда больше, чем корочки и «поплавок». Однако единственной работой, которую ему с таким образованием удалось найти, оказалось талдычить оболтусам русский и литературу в задрипанном лицее. Впрочем, кое-как существовать это позволяло — скромненько, зато годами.
Тут-то и пришёл черёд выйти на сцену тётке Агафье.
Трясясь (все разговоры о «бархатных» дорогах РЖД полная чушь!) в поезде 109А и направляясь в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов, он думал, что даже не знает настоящей степени родства: разумеется, тёткой ему Агафья никак не доводилась, разве что какой-нибудь седьмой водой на киселе. Однако в десять лет он провёл у неё в гостях целое лето, причём памятное: именно тогда он на всю жизнь пристрастился к истории — благодаря найденной в тёткиных завалах книжке Гастона Масперо «Египет, Ассирия» 1892 года издания.
Сама-то Агафья книг не читала, вернее, принадлежа к староверам, только свои, священные, однако и все остальные, разными судьбами к ней попавшие, свято почитая любое печатное слово, тщательно хранила, твердя юному Маврику: «Это, племяш, твоё наследие, сбереги его!». Сама она уже в свои семьдесят с небольшим казалась ему ходячей древностью, ожившей мумией, вроде той, что он заворожённо разглядывал в «Эрмитаже», старухой, которой в свои годы и в своей деревне оставалось разве что горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать.
И вот она умерла, протянув ещё больше четверти века. Соседи известили его слишком поздно — он даже не успел на похороны. И теперь ехал только поклониться могиле да вступить в права наследования, поскольку именно ему Агафья «завещала всё».
«Всё» оказалось не столь уж малым. Дом, правда, был хоть велик, но дышал на ладан, ходить по нему следовало, не дыша. Зато участок — без малого гектар — даже в здешней глуши кое-чего стоил. Впрочем, деревня со странноватым названием Америково не в такой уж глуши располагалась — каких-то полтора часа на машине от Саратова. Историю возникновения названия этого тётка рассказала Маврику ещё тогда, в детстве. Жил-был наполеоновский полковник Жан-Арман д’Амеркур. Во время Войны 1812 года, подобно многим, оказался в плену, там влюбился — без памяти, со всем галльским пылом — в русскую барышню и вскорости подал на высочайшее имя прошение о принятии в российское подданство.
Государь отнёсся к нему доброжелательно — всё-таки аристократ, чей род восходит в первым Крестовым походам, пусть и подпавший под чары узурпатора, а посему прошение удовлетворил и даже одарил экс-полковника деревней на Саратовщине, коей и присвоили вскоре имя Амеркурово. Вкупе с двумя деревеньками, полученными в приданое, получилось неплохое имение. Лежало Амеркурово по обоим берегам речки Течи, которую в половодье и телега преодолевала, а в межень — так и курица вброд. Но потом пришла Советская власть с ее электрификацией, кому-то взбрело в голову построить ниже по Течи плотину, уровень воды поднялся, моста построить никто не удосужился, вот и распалась деревня на две: на левом берегу — Америково, на правом — Курово. Тётка в Америково жила.
Мавр прикинул, что дом по разваленности своей ничего не стоит. А вот участок — иное дело, кое обмозговать стоит. Хозяйство у Агафьи было нищенское, ничего с него не возьмёшь, да и в доме — сплошь рухлядь, даже если антикварная: на реставрацию потратишь больше, чем потом выручишь. Но оставался ещё обширный чердак, где Мавр застрял надолго: помимо прочего хлама, несколько запертых сундуков, битком набитых книгами. И, начав разбираться в них, Мавр учуял запах немалых денег, особенно с какого-нибудь аукциона «Сотбис». Дело, натурально, непростое, но возможное. И в перспективе оно означало свободу от постылого лицея… Среди прочих сокровищ этой вивлиофики оказался переплетённый в потрескавшуюся от времени телячью кожу том ин-кварто ещё догутенберговской эпохи — написанный на тонко выделанном пергаменте удивительно чётким каллиграфическим почерком по-латыни и украшенный изумительными по тонкости рисунка виньетками и киноварными буквицами…
III
— «Гримуар Гримальди»! — привскочив, чуть ли не вскрикнул доктор Гаспар Арнери. — Это он! Это может быть только он!
— Не знаю, — отозвался Мавр. — Могу лишь сказать, что писано не позже восьмого — десятого века. Что школа каллиграфии — ирландская, а вот в виньетках чувствуется старопровансальское влияние. А кстати, причём здесь Гримальди? Насколько я знаю, род генуэзских Гримальди, в восемнадцатом веке пресекшийся, пусть даже князья монакские и продолжают относить себя к этой династии, ведёт начало с двенадцатого столетия. А это заметно позже времени создания манускрипта.
— Вы правы, совершенно правы, коллега! Это загадка, и есть единственно правдоподобное предположение: один из Гримальди, Алессандро, в середине семнадцатого века исполнял в Генуе должность инквизитора и тогда мог завладеть книгой, принадлежавшей кому-то из еретиков. В дальнейшем она, как порою случается, обрела название, подразумевающее «Гримуар [из библиотеки — или собрания, или коллекции] Гримальди». По крайней мере я другого объяснения не вижу. А уж какими судьбами он попал к вашему полковнику д’Амеркуру — и вовсе загадка, у нас о нём никаких сведений нет…
— Доктор Арнери, — прервал его Блейк, — об этом мы успеем подумать и порассуждать позже. Теперь же нам важно другое. Как вы поступили с гримуаром, Мавр?
IV
Зачарованный находкой, Мавр увёз гримуар с собой, уложив в дорожную сумку. Остальные книги он рискнул отправить багажом, но только не эту.
Дальше всё пошло своим чередом. Участок — спасибо кое-кому из старых университетских друзей — удалось продать достаточно выгодно. Большую часть книг — тоже. Не на аукционе «Сотбис», конечно, а здесь, в России, но всё равно банковский счёт Мавра изрядно вырос, хоть он и подозревал, что покупатели сумели перепродать его букинистические сокровища втридорога. Но что делать? В мире антиквариев — в отличие от торговли недвижимостью — друзей у него не было. Однако в конечном счёте от службы он избавился, о хлебе насущном не думал и мог посвятить всё время исследованию манускрипта.
Здесь была не та благородно-благозвучная классическая латынь Цицерона, какую Мавр вынес из университета, а средневековая, опрощённая, ущербная и вульгаризированная, но зато с обильными включениями старофранцузского, старопровансальского, а изредка даже какого-то из гаэльских — с последними Мавр был до сих пор и вовсе незнаком. Словом, тот ещё супчик!
На то, чтобы более или менее разобраться в нём, ушло пять лет, о которых Мавр, впрочем, ничуть не жалел, наоборот, вспоминал с восторгом — более захватывающего интеллектуального приключения у него ещё не было. Что же до результата…
Манускрипт оказался книгой заклинаний. Мавр же во всякую оккультную дребедень сроду не верил. А потому вознамерился убедиться в торжестве материализма. Вот одно из самых простых, самых коротких заклинаний: воззжение огня. Он поставил на стол свечу и насколько мог гладко прочёл текст.
Господи, фитиль вспыхнул! И ещё раз, и ещё, и ещё… Неужели это работает?!
Два следующих года ушли на освоение заклинаний более сложных.
Больше всего заинтересовали Мавра заклятия перевоплощения. Оказалось, что с неорганической материей работать намного сложнее: да, воплотить в жизнь вековую мечту алхимиков о претворении свинца в золото не так уж трудно. Однако заклинание здесь играет роль курковой реакции — слабое воздействие, приводящее в движение могучие силы. Но оказалось, что для превращения килограмма свинца в килограмм золота потребна энергия, сопоставимая чуть ли не со взрывом Кракатау. И где, скажите на милость, её взять? Какие адские силы выпустить на волю? Хорошо бы замахнуться, да себя притом не сжечь… А вот с органикой всё не в пример проще: тут важен только пересчёт масс. Грубо говоря, сотворить из двух полуторакилограммовых кочнов капусты одного трёхкилограммового кролика — пара пустяков. И это навело на мысль…
V
— И тогда, если я не ошибаюсь, первыми вашими жертвами стали сомалийские пираты? — сурово вопросил прокурор доктор Блейк.
— Гвинейские, — спокойно возразил Мавр. — Сомалийских практически извели до меня. Я лишь чуток подчистил. Но вообще-то «пират» и «жертва» — понятия несопоставимые, с позволения сказать, катахреза. Впрочем, самый первый опыт имел не масштабный, а скорее частный характер.
— А именно?
Рассказать? Почему бы и нет?
VI
На третьем этаже в их парадной обитал необщительный субъект, чьи добрые чувства без остатка расходовались на трёх питбулей. Днём их выгуливала его жена, женщина тихая и незаметная, причём неизменно выводила всю троицу в намордниках и на поводках. Зато по утрам и вечерам хозяин самолично выступал во главе своры, а когда соседи или прохожие на всякий случай отступали в сторонку, не без ехидства замечал, что собаки — это вам не люди, зря ни на кого не набросятся. До поры до времени так оно и было. Пока вся троица на глазах хозяина не накинулась Бог знает с чего на соседку со второго этажа, возвращавшуюся домой с тяжеленными сумками. Может, в них что-то безмерно притягательное для псов лежало? Поди теперь разберись! Но факт есть факт — женщину со множественными рваными ранами увезли в больницу, псовладельцу же лишь пригрозили штрафом, на что тот махнул рукой: «Да хоть сейчас!»
Мавру рассказали об этом часа два спустя. Он подумал-подумал, наконец решился, и к утру собаки благополучно исчезли, а на деревьях во дворе поселилась стая весело стрекочущих белок. Скандал был великий, но подозреваемая в покраже собак женщина лежала в больнице, обвинить же кого-то другого у потерпевшего не то фантазии, не то духа не хватило.
И вот тогда пришла мысль об африканских пиратах: чем они, собственно, лучше питбулей? И вскорости те исчезли. Настолько, что нанимать на торговые суда охрану и держать эскадры в Индийском или Атлантике вскоре потеряло смысл. Ну а если в тамошних водах заметно прибавилось Cetorhinus maximus — так ведь многие виды акул, в том числе и эти безобидные гиганты, уже занесены в Красную книгу…
VII
Мавр устал: всё-таки полчаса сна после тяжёлого дня — это слишком мало. А милая беседа длилась уже третий час. И, словно почувствовав это, Савицкий предложил сделать «как теперь говорят, кофе-брейк». Мысль здравая. Мавр уже совсем было собрался отправиться в кухню, но судья опередил его:
— С позволения любезного хозяина, так порадовавшего нас своей откровенностью, я сам похозяйничаю.
Мавр понял, что ему все равно. Хотелось только, чтобы всё скорее кончилось. Как угодно.
— Моя бабушка любила говаривать: «Кто в доме гость, тот и хозяин». Но предупреждаю, кофе у меня только растворимый. Натуральный купить забыл.
— Не беда, я разберусь, — отмахнулся Савицкий и скрылся в кухне.
Мавр встал, привычно запахнул поглубже халат, извлёк из бара наконец дождавшуюся своего часа литровую бутылку «Маркиза де Ливри» (вполне достойный арманьяк, пусть не из лучших), водрузил на кофейный столик. И завершил сервировку хрустальными коньячными рюмками — прощальный подарок лицеистов, узнавших об его уходе. Мавр тогда был растроган — ведь теперь-то в их жизни зависеть от бывшего преподавателя ничего не могло. Значит, кому-то из них уроки его пошли впрок и пришлись по душе; выходит, не просто лямку тянул…
Всё это происходило в полном молчании. Доктор Гаспар Арнери, правда, несколько раз порывался что-то сказать, но тут же увядал под суровым взглядом доктора Блейка.
А минуту спустя Савицкий внёс поднос с кофейником и четырьмя исходящими ароматным паром чашками. Мавр жадно отглотнул — он с детства мог без последствий пить чуть ли не крутой кипяток. Это был не «Якобс Монарх». Это было нечто! Он вопросительно посмотрел на судью. Тот улыбнулся:
— Кое-что и мы умеем, правда? — И, не дожидаясь ответа, спросил: — Ну а с этими — муллами, аятоллами? С ними-то вы что учудили?
— Главное, почему, — ответил Мавр. — Они раскатывают по Европе, встречаются с церковными иерархами и политиками, называют себя борцами за мир и противниками террора, а в мечетях, среди своих, именно к тому и призывают. Похуже любой пятой колонны. А в итоге — взорванные и сожжённые церкви. Их наущением. И мечети, растущие, как шампиньоны на… Да что говорить — сами прекрасно знаете! Тут я, каюсь, и вспомнил, как Ходжа Насреддин собирался учить ишака богословию. А в результате стало в мире двумя десятками ослов да мулов больше. Уж их-то проповедь никому не повредит. Но как вы догадались, что это я?
— Дорогой Мавр, не будь вы новичком-аутсайдером, вас нашли бы уже много лет назад. Просто долгое время такая мысль никому и в голову не приходила. А когда пришла, и мы посмотрели вокруг… Вы же наследили, как стадо слонов. Тех самых, в которых превратили намибийских браконьеров. Ведь всякое магическое действие оставляет след, прочитать который опытному магу не так уж трудно.
— Я думал об этом, и немало, но до конца уверен не был.
— И всё-таки вы нас ждали, — это был не вопрос, а констатация.
— Не то чтобы… Скорее, допускал такую вероятность.
— И тем не менее, продолжали действовать, — вступил в разговор прокурор Блейк.
— Да. И о том не жалею.
— Неужели?
— Ни минуты.
Возникла пауза. Долгая. Мавр мелкими глотками допивал вторую чашку кофе, понемножку прихлёбывая арманьяк. Последнего, кстати, и остальные не чурались. Но в этой напряжённой тишине казалось, будто визитёры ведут между собой некий серьёзный разговор.
— Что ж, — прервал молчание Блейк, — пожалуй, я задам ещё лишь один вопрос. В вашем деле, Мавр, эпизодов столько, что придись разбирать каждый, понадобился бы многолетний процесс. Но суть-то у всех них одна, разнообразием мотивов тут и не пахнет. Что значительно упрощает дело. Итак, последнее. Беженцы.
— Как вы сами справедливо заметили, мотив всё тот же. Этих людей в Европу не звали. И рвутся они сюда отнюдь не затем, чтобы стать европейцами. Мы сейчас — гибнущий под ордами варваров Рим. Там тоже даровали им гражданство. И чем кончилось? Все это политкорректное, мультикутуралистское и прочее словоблудие Европу не спасёт. Ей нужны Флавии Аэции. Его называли последним римлянином. Ну а я — последний европеец. И убеждён, что именно такие Европе сейчас нужны. Хоть частица такой души должна пробудиться если не во всех, то во многих. Во мне она живёт — и я нужен. Как нужны Карлы Мартеллы и Флавии Маврики.
— Но ведь войны-то нет!
— И потому нужны другие методы. Мирные. Потому нужен я.
— Вы? Тот, кто погубил многие тысячи беженцев? Женщин и детей?
— Во-первых, женщины и дети — это лишь живой щит, тактика давным-давно отработанная. А за щитом — молодые волки, жаждущие, живя за счёт Европы, её милостью, изгрызать её изнутри, пока не сдохнет. Если ты просишь убежища в чужом монастыре — не суйся со своим уставом. Не режь и не жарь барашков на площадях. Не насилуй женщин, чей вид, видите ли, оскорбляет твою нежную душу! А во-вторых, разве я хоть кого-нибудь убил? Они хотели привольной жизни — и получили. Посмотрите, как выросли, например, в Средиземном море популяции обыкновенных тунцов и дельфинов-белобочек. Да то ли ещё будет! И все они довольны жизнью.
— А их личности? Разве они не уничтожены?
— Они самоуничтожились, когда не сумели наладить жизнь в собственных странах и вознамерились поглотить чужие. Но уж к этому я никак не причастен.
— Допустим. Однако среди козлищ встречаются ведь и агнцы. И как быть с ними?
— А как вы думаете, почему исчезают не все так называемые беженцы? Ответ в гримуаре. Заклятия на открытое и закрытое сердце...
— О чём-то подобном упоминал и рабби Моше Бен-Нахман… — вставил было Гаспар, но Мавр не дал сбить себя с мысли:
— ...метафора, конечно, так ведь язык его сплошь метафоричен. Те, кто хочет вписаться в новую жизнь, едут с отрытым сердцем. А кто жаждет превратить Европу в свой халифат — с закрытым. И мои заклятия действуют лишь на них. Только вот их, к сожалению, подавляющее большинство…
— Что же, коллеги, полагаю, пришло время выносить решение, — проговорил Савицкий. — Что скажете, Гаспар, в пользу вашего подзащитного?
— Он прав, утверждая, что никого не убивал, и это, безусловно, говорит в его пользу. Его действия служили также на благо исчезающим или находящимся под угрозой видам…
— …одним из коих являются, между прочим, европейцы, — не удержался Мавр.
— Не перебивайте, — сурово одёрнул судья. — Ваше последнее слово впереди.
Мавр кивнул, налил себе ещё кофе, откинулся на спинку кресла и затих.
— В пользу моего подзащитного говорит и ещё одно. Он — человек случайный. Маг-самоучка, не ведающий ни наших традиций, ни нашей стратегии хранителей мудрости и духа познания, но не отдельных цивилизаций. Со своими скудными умениями он вмешался в дела мира, руководствуясь лишь совестью и искренней верой в собственную правоту. И потому я прошу проявить к нему снисхождение, хотя незнание закона, как известно, и не освобождает от ответственности.
— Будем считать, что прокурор и адвокат уже выступили. Вот теперь, Мавр, слово вам.
— А имею ли я право высказаться уже после вынесения вердикта?
Савицкий на секунду задумался:
— Если у вас нет никаких просьб к суду и вы не можете привести ещё каких-то аргументов в свою защиту…
— Нет и нет.
— Тогда будь по-вашему. Это маленькое отступление от процедуры никому и ничему не повредит. Итак, коллеги, теперь мы должны придти к единогласному решению. Казус, конечно, редчайший, но руководствоваться мы обязаны исключительно собственными установлениями и уложениями. Боюсь, выбирать не приходится — преступления против неизбежного хода истории и человеческих личностей явны и сомнению не подлежат.
— Значит, развоплощение, — удовлетворенно кивнул прокурор.
— Увы, развоплощение, — печально вздохнул адвокат.
— И потому властью, которой облёк меня Совет магов света, приговариваю вас, Мавр, к развоплощению, — закончил судья.
Спектакль окончился.
VIII
— Надеюсь, мне позволят перед казнью ещё чашечку вашего изумительного кофе? — полюбопытствовал Мавр.
— Разумеется, — пожал плечами судья. — Но, должен сказать, и хладнокровный же вы субъект! За свою долгую жизнь я таких, признаюсь, не встречал.
Мавр налил себе кофе, плеснул арманьяка.
— А теперь растолкуйте мне, что такое развоплощение.
— Ну, в самом первом приближении, — пустился в объяснения Гаспар Арнери, — это то же самое перевоплощение, которым вы занимались, но только перевоплощение в ничто. Физическое тело медленно, буквально по атому, истаивает — безболезненно, но и безвозвратно.
— Безболезненно? Разве с того света кто-то возвращался?
— В этом нет необходимости. Развоплощаемый пребывает в сознании до самого последнего мгновения. И потому мы уже много веков знаем, что процесс действительно безболезнен.
— До последнего мига? Достопочтенный судья, а имею ли я право произнести своё последнее слово в предпоследний миг?
— Если таково ваше желание — пожалуйста. Мы всё равно должны до конца присутствовать при исполнении приговора.
— Но позвольте ещё минуту, — Мавр встал и вышел в кабинет, предусмотрительно оставив дверь распахнутой, чтобы его было видно, и тут же вернулся с большим титановым кейсом, который и водрузил на стол.
— Внутри — «Гримуар Гримальди». Примите как прощальный подарок высокому суду. А теперь — приступайте.
Маги встали и заняли позиции так, что Мавр оказался точно в центре незримого равностороннего треугольника. Они не свершали никаких пассов, просто замерли, беззвучно шевеля губами. Сам Мавр всё-таки всегда произносил заклинания вслух.
Боли впрямь не было. Просто по телу, начиная с ног, стало медленно разливаться некое неопределенное онемение. Мавр глотнул арманьяку и полюбопытствовал:
— И сколько времени это займёт?
— Минуты две-три, может, чуть больше, — ответил Савицкий.
Теперь все трое стояли перед ним и смотрели… кажется, с грустью. Или сожалением? Или сочувствием? Бог весть. Но от этого на душе стало теплее. Или так проявляется какой-то из побочных эффектов развоплощения?..
Он просчитал про себя до ста и заговорил.
IX
Бальтазар, Гаспар и Мельхиор, стоя, наблюдали, как медленно растворяется в воздухе тело Мавра. Сквозь него уже явственно виднелась потрескавшаяся местами чёрная кожа кресла. Голова тоже начинала терять форму. Они по опыту знали, что последним исчезает лицо. Оно пока оставалось прежним, спокойным, а полупрозрачная правая рука всё ещё держала рюмку.
— Коллеги, — зазвучал голос, — вот моё последнее слово. Мавр сделал своё дело, Мавр может умереть. Но что же вы, думали, я тупо зазубрил несколько заклинаний? Ну уж нет! И теперь истинно, истинно говорю вам: каждый из вас отныне — это я! Le roi est mort, vive les rois! [1]
Выпав из окончательно истаявшей руки, рюмка упала и разбилась. Осколки ещё не отзвенели, как погасло и лицо.
Трое магов безмолвно покинули квартиру, спустились в лифте и вышли на улицу. Здесь они остановились и переглянулись.
— Что же, продолжим? — спросил Гаспар.
— Разумеется, — кивнул Балтазар.
— С какого места?
— С того, где остановились, — подвел итог Мельхиор.
И люди в чёрных плащах и шляпах разошлись в разные стороны, быстро растворясь в темноте ноябрьской петербургской ночи. И только с безоблачного неба зорко следили за ними три ярких звезды: Пояс Ориона — Альнитак, Альнилам и Минтака, которые в России зовут Три Волхва.
[1] Le roi est mort, vive les rois! (франц.) — Король умер, да здравствуют короли! С одной стороны, это отсылка ко классической французской формуле Le roi est mort, vive le roi! (Король умер, да здравствует король!), провозглашаемой после кончины одного монарха и перед объявлением о восшествии на престол следующего; с другой — отсылка к тому обстоятельству, что Бальтазар, Гаспар и Мельхиор, именуемые у православных тремя волхвами, во всех остальных христианских конфессиях называются королями-магами. [Прим. ред.]
**
Андрей Дмитриевич Балабуха (1947-2021) родился в Ленинграде. Прозаик, эссеист, поэт, критик, переводчик, составитель отдельных сборников и книжных серий, литературный и научный редактор. Автор двадцати четырёх книг — семи сборников стихов, а в прозе относящихся к жанрам фантастики, научно-художественной литературы и литературной критики. Много занимался переводом фантастики (преимущественно с английского). 39 лет вёл свою литературную студию и свыше 10 лет — творческую мастерскую на курсах «Литератор».






Мавр, или Последний европеец?

Андрей Балабуха