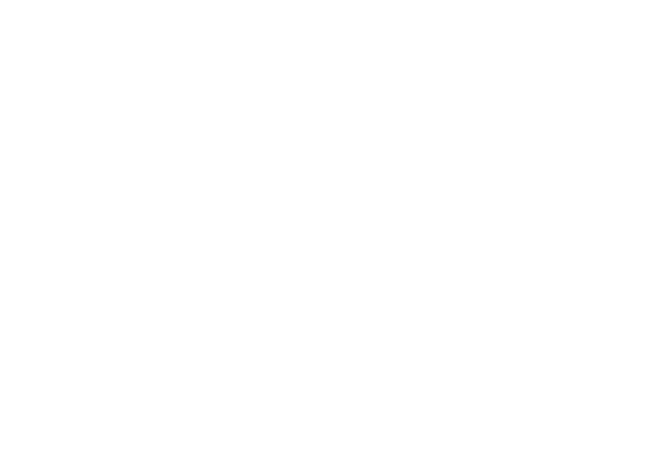Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Борис Артемьев
(Россия, Москва)
(Россия, Москва)
Дай врат Петровых мне увидеть свет
Данте
На больших оконных стёклах следы дождя и дальше непроницаемый туман. В комнате вокруг стола под свисающим с потолка, зажжённым розовым абажуром – шесть угловатых плотных мужских фигур. Слышатся мастерские, «с причмокиванием», удары костяшек домино, сопутствуемые беседой давно и хорошо знающих друг друга людей.
– Ишь, звук какой! Ты что, Иван, снова полировал доску?
– Дело не в полировке. Дерево другое положено – вчера с Петром вечером закончили. Теперь не хуже, чем у тебя в гостиной.
– Ты не на полировку смотри, а в кости, – прервал его сосед слева. – Передай-ка на ту сторону.
Оба уставились на кости, тесно зажатые в выставленных перед глазами ладонях. Но тут игрок, сидящий напротив, внезапно делает молниеносный победный выпад, выставив по симметричной костяшке сразу по обе стороны выложенной на столе дорожки.
– Рыба!!
– Эх, не угадал! – крякнул сосед слева.
Послышались одобрительные возгласы и досадливое ворчание:
– Двадцать лет играл в цеху с Василём, и вечно ему на дупли везёт!
– Ну, это ты, брат, напрасно: не ему везёт, а он.
– И то правда – везёт тому, кто везёт.
Конец партии. Все на минуту откидываются от стола. Хозяин квартиры поворачивает голову к раскрытой двери.
– Марья! Ты нам, когда соберёшь?
В двери появляется дородная фигура жены. Лицо её светиться радостью:
– Скоро, скоро! Дети уже пришли. Сейчас я с ними парой слов перекинусь и накрою всем вместе. Через пол часика, Ваня, подойдёт, а?
– Ну, чтоб не дольше. А то вон, Петро, после вчерашнего два и два сложить не может. Да и остальные... – Из среды игроков слышится в ответ: «Чья бы корова мычала…Хе-хе-хе...» Хозяин улыбкой поддерживает шутку, затем снова обращается к жене:
– Так что, Володя и Таня, говоришь, уже пришли?
Из-за фигуры хозяйки появляется зять – темноволосый молодой человек с бледным лицом:
– Здравствуйте, Иван Фёдорович! Поклон всем присутствующим! – сидящие за столом, приподнимаясь, здороваются с ним за руку:
– Наше вам с кисточкой! Как интеллигентская жизнь?
– Плохо!
– Володя, я не предлагаю тебе садиться с нами, – мягко сказал тесть. – Всё равно ведь не станешь.
– Да-да, продолжайте без меня.
Зять подошёл к окну. За стёклами стоял такой же туман, как и там, откуда они выехали с женой час назад... Появилась тоненькая большеглазая Таня, поздоровалась со всеми, поцеловала отца и прильнула к мужнину плечу. Мерный стук домино возобновился, и спустя минуту сияющая Марья Семеновна увела молодых смотреть подарки в свою большую комнату со светлыми тиснёными обоями и пушистым ковром на полу. С ковра поднял мордочку любимец хозяйки кот Рыжик, устремив внимательный взгляд голубых глаз навстречу вошедшим. Таня сразу же взяла его на руки.
Усадив гостей в сдвинутые мягкие кресла, Марья Семеновна извлекла свой главный подарок – толстый альбом в обложке из инкрустированной цветной эмалью роскошной белой кожи, и стала рассказывать, как она разыскала пожелтевшие оригиналы, заказала цветотонированные копии и вот впервые соединила вместе лучшие фотографии дочери от пелёнок до подвенечного платья. Голос её звучал звонко, вся массивная фигура являла, как обычно у неё было теперь, невесть откуда вернувшуюся молодую подвижность, а лицо – неудержимо заискивающее выражение, примету счастливых влюблённых и, вообще, ошеломлённых своей удачей людей.
Эта перемена произошла с ней недавно, после ужасного потрясения, когда она думала, что лишилась дочери и зятя навсегда. Они погибли в автомобильной катастрофе. Но оказалось, что всё же можно «перевести» их сюда, как раньше была переведена «сюда» она сама, её муж и постепенно, один за другим, все их друзья. Так же, как миллионы и миллионы других людей по мере того, как заканчивался их обычный, как говорят, «земной» путь. Ведь наука сейчас делает чудеса. И вот теперь дети были с ней. Дочь была счастлива. Но молодой человек, тёща видела, тосковал. Она повела взглядом: рука зятя лежала на альбоме, но смотрел он в окно.
Туман за стёклами рассеялся, и идущий откуда-то сверху свет освещал лаконичный замкнутый городской пейзаж. Но Володя уже знал, что в него никак нельзя было выйти – вот в чём штука. Здесь, сколько ни пробуй, выходя из одного помещения, попадаешь в другое. Иногда протяжённое, величиной с небольшую улицу. Иногда круглое, величиной с площадь. Но всегда в помещение. Здесь не было запаха полей, шелеста лесов, удара морского вала о пляж. Никогда нельзя было выйти на открытый воздух, под небо. Или поехать куда-нибудь, скажем, на море. Лучше всего на море. Обязательно на море. Большой Барьерный риф – это была его мечта. И вместо этого он очутился здесь.
Да, но по чьей вине ты здесь? Уж не собираешься ли ты кому-то предъявлять претензии? Кто загубил жизнь Тани, уж если не говорить о собственной жизни? Последнее, что он видел, когда, войдя на большой скорости в поворот, не удержал их дримкар на колёсах, это её обращенное к нему с жалобой лицо, которое заливали слёзы и кровь. Что гнало, что будоражило его тогда, да и не даёт покоя теперь? Впрочем, о вине думать не хотелось. О вине как-то спасительно не думалось. Она причиняла душевную боль, в данном случае безнадёжную, ибо исправить всё равно ничего было нельзя.
Он снова бросил взгляд на пейзаж. Тот был совершенно неподвижен. Это была не жизнь. Это был макет, неволя, тюрьма. Зачем всё это? Зачем это продление мучений? Впрочем, ни тёща его, ни доминошники совершенно очевидно не мучились, и было бесполезно задавать им подобный вопрос.
– Володя, посмотри, какой красивой и серьёзной школьницей была твоя Таня!
Он повернул голову. На него смотрели две пары влажных женских глаз, радостно, но с затаённой тревогой на дне. Рука жены будто прикипела к его локтю. Она любила держаться за него и раньше, но после катастрофы и их чудесного воскрешения вообще, кажется, не выпускала его руки. Не так много пар, надо думать, попадает сюда в разгар любви. Интересно, застывает ли она навсегда, как роденовская «Вечная весна»? Когда они очнулись здесь, она плакала от счастья, становилась на колени, благодарила Небо и кого-то ещё за то, что они и дальше смогут принадлежать друг другу. Каждую ночь он чувствовал её крепкие объятья и горячий шёпот: «Ты мой! Ты мой!» Но теперь он знал, что это не так. Он неотвратимо принадлежал и кое-чему иному. Смерти принадлежал, которая самые горячие, самые истовые объятья умеет вдруг оставлять пустыми. И Жизни принадлежал. Не этой, обывательской. А той, большой – всему, что он знал, его мечтаниям, которые требовали от него соразмерных им смысла и поступков. Теперь всему этому положен конец, и он застыл между прошлым и настоящим нелепой фигурой.
Во входную дверь позвонили, и теща пошла открывать. «О-о-о! Здравствуйте, Эдуард Иннокентьевич!» – раздался её почтительный возглас из передней. При упоминании этого имени мрачное лицо зятя оживилось, и он быстро пошёл навстречу гостю. Вошедший, высокого роста коротко стриженный поджарый сильно пожилой мужчина, стоял в дверях, склонив голову в поклоне.
– У меня к вам небольшая просьба, Мария Семёновна, – говорил он. – Ко мне сейчас должен прийти историк – «оттуда», – гость повёл глазами вверх, – брать, как они говорят, интервью. Хочу угостить его чаем, а достойных чашек и вообще сервиза у меня нет.
– Как для вас, какие могут быть разговоры! – галантно отвечала тёща, удаляясь на кухню.
– Историк? – приподняв бровь и криво усмехнувшись, едва слышно произнёс, как бы обращаясь к самому себе, зять.
– Да, такое бывает, – гость вскинул глаза на юношу. – Мы все для них – фонд, архив. Но много лучше, чем обычная груда бумаг.
– И о чём же интервью?
– В молодости я был довольно коротко знаком со знаменитым Вахтарьяром и даже посещал кружок или семинар, который он вёл, по теме «Теоретическая физика и человек». Мы, участники семинара, в шутку называли его «Физика и лирика». Спустя год меня пригласили в Зеленчукскую обсерваторию для физико-математического обеспечения работы шестиметрового рефлектора. И я уехал. Но за недолгое время бесед на семинаре сумел поставить для себя некоторые жизненные вопросы, а иногда даже и получить ответы навсегда.
– А что же сам Вахтарьяр?
– Вахтарьяра никто из историков расспросить не может. Его затоптала толпа. Да так, что трансанимация оказалась невозможной.
– Сила небесная, за что?!
– Это было во время погромов при последней у нас вспышке фанатичного национализма. Иностранцы и люди, известные своим космополитизмом, спешно покидали страну. Вахтарьяр хотел спасти свою библиотеку, полную разноязычной литературы. Его за этим и накрыли.
Вернулась хозяйка, семеня мелкими шажками, бережно неся в руках небольшой поднос, уставленный посудой:
– Здесь всё, что вам понадобится.
– Премного благодарен, – гость перехватил поднос и повернулся к выходу.
– Эдуард Иннокентьевич, – чуть слышно произнёс зять, – можно мне с вами? – и сразу услышал в ответ краткое и решительное: «Идёмте».
– Но, Володя, мы сейчас садимся за стол...– только и успела сказать тёща. Таня уже тоже стояла в прихожей: немая статуя с протянутой рукой. Володя досадливо дёрнул плечом:
– Ах, мама, мне нужно. Я присоединюсь к вам позже.
Дверь щёлкнула фиксатором.
– Ушёл? – озабоченно спросил хозяин из гостиной, пододвигая очередную костяшку домино. Из прихожей послышался короткий сухой женский всхлип.
– Не повезло ему, – негромко сказал один из играющих. – Молодым попал сюда, не успел ничего.
– Мы тоже, – буркнул его сосед.
– Ха! Чтоб ты, старый хрыч, делал на том, первом, свете на пенсии? Тоже б, что и здесь – играл в домино.
– Ну не скажи. А рыбалка? А под яблоней полежать в жаркий день?
– Да... рыбалка... Но, может быть, и это когда-нибудь будет…
– Может быть...
Спустя час в соседней квартире историк – сравнительно молодой ещё человек с бритой головой, на фоне безволосого лица которого выразительно выделялись чёрные дуги бровей – уже складывал изящную стрелу видеофона. Затем медленно, сверяясь мысленно, не пропустил ли чего в беседе, закрыл блокнот-компьютер. Поднял голову и, перед тем как встать, обвёл присутствующих взглядом, в котором ещё пылали отсветы мыслей, только что звучавших в этой комнате. Эдуард Иннокентьевич тепло улыбнулся ему:
– Надеюсь, я удовлетворил вашу исследовательскую жажду?
– Вряд ли это в принципе возможно, – усмехнулся историк. – Но я очень вам благодарен. Ваш случай особенный. Я очень стремился сюда попасть, а это ведь сложно для нас – дорого, большие потери энергии. Вы, наверное, знаете. Но для меня эта игра стоила свеч не только как для исследователя. Когда «раскапываешь» такой материал, такого человека, как Вахтарьяр, жизнь сызнова предстаёт осмысленной, видишь, что всё идёт, как надо. А это очень вдохновляет.
Закрыв за гостем дверь, Эдуард Иннокентьевич обернулся к Володе:
– Почему вы не задали ему вопросов? Ведь он наверняка готовился к «спуску» сюда, к встрече с нами.
– Не задал, потому что откуда ему знать наши проблемы. Одно дело у них там, в «действующем ряду», и иное дело здесь. Там – жизнь, а здесь… – Володя пожал плечами. – И главное, потому что не мог рассчитывать на откровенность и не хотел выглядеть странным.
Молодой человек вернулся к чайному столику и уселся в кресло, будто и не помышляя, что его ждут в соседней квартире.
– Но, конечно, Вы правы. Вопросы у меня есть, и очень острые. Могу ли я задать их вам? Из всех, кого я знаю, только у вас могут быть убедительные для меня слова и…
– И потому вы здесь, – перехватил его речь хозяин. Он тоже вернулся в кресло и принялся неторопливо набивать табаком трубку. – Ну что ж, сомнение полезно, преодоление его насущно. Мы всего лишь люди, и потому никто не положил истину в карман. Как вы только что слышали, даже им «там» время от времени нужно подкрепить вдохновение. Говорите – постараюсь ответить всем, что имею.
Володя помолчал, упёрся пальцами в лоб:
– Я здесь как в полусне, Эдуард Иннокентьевич, и всё чаще чувствую, что не в силах продолжать это существование. Гложет тоска по вольному миру, со всей его, я бы сказал, полновесностью – опасностями, возможностями. Буквально преследует, например, образ тяжёлого морского вала, ударяющего в пляж и обволакивающего пеной моё тело. А здесь – не жизнь. Но главное даже не в том, что это такое. Главное – зачем оно? Даже, если вы мне докажете, что это форма жизни, на которую пошли, чтобы сделать её вечной. Я не хочу жить вечно. Результат «вечных» (а это ведь немало) усилий не вызывает у меня энтузиазма. Вахтарьяр, как мы только что слышали, учил, что мировому развитию положил начало надмировой Разум, который таким манером намеревается вырастить ещё одну сознательную силу себе в подспорье. Придумали для себя сладкую сказочку, что в «конце веков» или за пределами этого мира нас поджидает Боженька с распростёртыми отеческими объятьями!
Володя вскочил, лицо его пылало.
– Вы слышали новую притчу о мельнике и муке? Её рассказал мне перед самым моим отбытием «оттуда» один, как вы сказали бы, скептик, хорошо понявший жестокость нашей Вселенной.
– Не слышал. Расскажите.
– Желая получить муку, некий Мельник засыпал зерно и включил жернова. Каждое из зёрен думало: «Какова моя роль? Видно, Он предназначил мне столкнуться в смертельной схватке именно вот с этим зерном! или пожертвовать собой и быть истёртым в муку вот теми каменными буграми жёрнова! нет! провалиться вот в эту щель и остаться целым, а потом сгнить...»
Но ничего этого мельник не предполагал. Хотя бы потому, что не знал, не мог, да и, что особенно забавно, не хотел знать. Но он твёрдо знал, что в конце получится мука, которую иначе не получишь. Не так ли и некое потустороннее Существо затеяло всю эту нашу жизненную канитель наподобие того, как люди кладут у себя в саду кусочек грибницы под трухлявую колоду, чтобы через небольшое время в условиях тепла и полива наружу вылезли готовые шампиньоны? Быть может, точно также это Нечто поджидает, когда после всех миллионнолетий эволюции (а в его ходе времени это, быть может, всего неделя) в бродильном чане – нашей Вселенной – приготовится высокоструктурированная пища – цивилизация, которую иначе не создашь. Вспомните у Лютера: чего Бог хочет, «до этого ни в коем случае доискиваться нельзя, об этом нельзя спрашивать и печься, а можно только бояться и молиться». Стоит ли стремиться к бессмертию с такой перспективой?
– Чу-чу-чу-чу! Умерьте свою гордыню, молодой человек. И не нависайте надо мной, как одержимый, – Эдуард Иннокентьевич подождал, пока Володя вернулся в свое кресло. – Вот так-то. Попробуйте взглянуть на мир с другой точки. Вы всё требуете от жизни, от других. А это обедняет душу, уверяю вас. Так можно не понять чего-то важного, – он отложил набитую уже трубку. – Не хотите быть мукой для Господа Бога? Какие слова! Тоже мне, нашли страшилку. Зачем это вы принялись гоняться с, как вы говорите, «Боженькой» в престижах: кто для кого средство? Оглянитесь лучше на себя, на всех нас.
Я не знаю, поджидает ли нас «в конце времён» космическая сверхакула, ощерившаяся пастью, или Бог-Отец с распростёртыми объятьями. Думаю, что ни то, ни другое. Да и какое мне дело до выдумок об отдалённом будущем, которого никто не может знать. Зато я хорошо знаю и вижу стремящегося, борющегося и страдающего человека. Его сейчас, сегодня, мучают болезни и смерть – не устранимое наказание и не заслуженное, и не оправданное, а потому несправедливое, унижающее. И не только личная смерть, но и смерть всего, что ему дорого.
Вы сказали, что не хотите жить вечно. Не обманывайте себя! Вы уже живёте вечно, когда желаете добра, желаете помочь, любите тех, кто будет жить и после вас, или посвящаете себя делу, исполнение которого требует времени, превосходящего вам отведенный срок. Участвуя в жизни, человек врастает интересами в её пласты, выходит далеко за пределы своей телесной оболочки и создаёт своё духовное «я», вбирая в себя надежды и заботы других людей, идеи, целые исторические эпохи. А затем начинает «болеть» за всё это как своей болезнью, действовать ради этого, а не ради себя – маленького, короткоживущего...
Потому смерть других людей, разрушение культуры, а тем более, осознание неотвратимого, принудительного конца своей личности, отнюдь не имеющей конца, угнетают, калечат духовное «я», то есть нашу душу – эту наиболее тонкую, высшую из достигнутых форм Жизни – и держат человека в состоянии постоянного стресса. Как верно сказано у Джона Донна: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе»! Этот погребальный звон казался нашим вечным спутником. В доцивилизационную эпоху так и считалось, что человек временен, конечен, обречён неизбежной смерти. Но уже тогда было очевидно, что в своей главной – мыслящей – части он безграничен и совершенно не испытывает «потребности в смерти», не движется к ней, проходя свой жизненный путь. Точнее, тело его движется, а душа нет. В своей высшей, подлинно человеческой ипостаси, он вполне готов к бессмертию, перестроен в соответствии с ним. Он уже, как гениально сказал поэт, бессмертен, хотя и «на время». Это время определялось природой биологического носителя человеческого духа. Дух существует только вместе с телом, как любая система существует, только состоя из элементов, которые выходят за её пределы. Так что спасать можно только обоих вместе.
И вот сравнительно недавно наука и, что было гораздо труднее, нравственность сумели сделать принципиальный шаг: освоили трансанимизацию – перенос облика и психики человека на другой, небелковый, носитель – не такой хрупкий и легче поддающийся коррекции. С этого момента все, чей час пробил, успешно преодолевают физиологическую смерть и – миниатюризированные и немного упрощённые – остаются в едином эмоциональном и пространственном целом с последующими поколениями, с людьми, как тут принято говорить, «действующего ряда».
Вместо того, чтобы и дальше терпеть поражение, беспомощно позволять всё уносящему потоку времени по-прежнему крушить свою душу и оставаться дикарём, человек пробился на следующую ступень. Когда-то он умел только собирать дары природы, потом научился производить, наращивать ресурс, силу и несколько потеснил смерть – от болезней, от голода, холода и от войн. Теперь, освоив анимацию, он подорвал её господство над собой. Когда рак превращает внутри вас один орган за другим в твёрдый камень опухоли, как хорошо – нет! лучше сказать – как справедливо спасти душу, которая мечется в клетке тела и тонет вместе с ним. Когда-то это придумали как сказку или как религиозный обет. Теперь мы можем сделать это на самом деле, своими средствами.
– Вы сказали: «Спасти»? – задумчиво переспросил Володя. И тут же резко вскинул голову. – Но позвольте, разве спасение заключается просто в вечной жизни? А возмездие? А воздаяние?
– Спросите ещё о наградах, – усмехнулся Эдуард Иннокентьевич. – Всё счёты... – И горькая складка воспоминаний пролегла от угла его рта. – Страх чего-то недополучить. Но оказывается человеку свойственна и другая драма, и даже трагедия – чего-то недодать. Настоящую любовь, и тут, как и всегда, прав Христос, вызывают не достоинства, а страдания. Если вы шли по жизни рука об руку с человеком, широко черпая удовольствия и наслаждения, и вдруг он умирает, и тут только вы понимаете, что это именно ваше двусмысленное и уклончивое поведение, ваши легкомыслие погубили его надежды, его жизнь – вам не уйти от казни. Возмездие и воздаяние человек несёт в себе, юноша. И они его тем более настигнут, раз ему продлён срок жизни. Суд совести – «суд Божий» – самый верный. Теперь мы дали ему необходимый простор – и для свершения, и для ответа…
Голос старого учёного звенел, в нём бились убеждённость и страсть.
– Да, это полужизнь. Но всё же она позволяет исправить то, что раньше бывало загублено безвозвратно. В ней нашли утоление чаяния бесчисленной череды прожитых лет, иссушенных старостью тел, горечь и сладость пролитых слёз, лелеемых надежд, ненависти и любви, беззаветного труда, весёлых застолий и безнадёжных страданий. Мы – теперь – показываем, что всё это не напрасно, что всё это вливается в поток жизни полностью и навсегда. Да что там «вливается в поток»! Мы избавились от мучительности и безнадёжности раскаяния, ибо, обретя жизнь после смерти, впервые получили возможность хотя бы отчасти осознать и устранить вину, воротить содеянное, «исправить» прошлое. Этого, по-вашему, мало?!
Эдуард Иннокентьевич бросил взгляд на бледное лицо собеседника, на его вцепившиеся в край столешницы пальцы: «Надо дать ему передышку». Несколько сгорбившись, физик склонился над столом, чтобы заняться забытой было трубкой, и продолжил значительно мягче:
– Я понимаю, что вас смущает. Да, это «тот свет», и мы с вами «души». Но мы «души живые», с надёжной возможностью перемещения, хотя и не без некоторых трудностей, с «того света» на «этот» и наоборот. Образчик такого путешественника только что от нас ушёл. Кстати, о вашей жажде солёного морского вала. Вы знаете, что существуют так называемые «отпуска»? Правда, очень редко. Надо ждать много лет. Но есть более быстрый путь. Вы можете подать проект какой-нибудь научной, художественной, организационной и тому подобной разработки. Если он будет принят, вас введут в «действующий ряд» на всё время внедрения.
– Я слышал, что вы подали такое предложение в университет, где преподаёт ваш сын, – чуть слышно сказал Володя.
– Да, заявка недавно ушла. Если она пройдёт... если она пройдёт, я смогу видеться с моим мальчиком каждый день.
– Видеться? Разве вы поселитесь не у него?
Собеседник замедлил с ответом. Он, наконец-то, раскуривал трубку.
– Как вам сказать... Есть некоторые малозаметные странности облика и поведения у нас, трансанималов. Мне не хотелось бы смущать невестку. Но видеться мы сможем каждый день, выпить вместе кофейку, пройтись по кампусу. – Глаза у Эдуарда Иннокеньбевича остановились, взгляд обратился внутрь, к работающему воображению, губы раскрылись в доброй, мечтательной улыбке. – Даже больше: я уверен, что мы сможем – и не раз – уехать за город на велосипедах. К нашим любимым Бурым холмам, куда я возил его ещё ребёнком.
– Вы тоскуете по сыну, – негромко сказал Володя, и это не был вопрос.
Рука с трубкой поднялась, облачко дыма окутало голову.
– Это есть, конечно, – Эдуард Иннокентьевич коротко рассмеялся. – Я кажется, увлёкся. Но я всё же хочу донести до вас свою мысль. Даже если проект не пойдёт, и у него, и у меня остаётся уверенность, что мы, хоть позже, но увидимся. Похлопаем друг друга по плечу, поедем рядом на велосипедах. А это совсем меняет климат жизни. Посмотрите на вашу тёщу. Как она помолодела, когда пришла весть, что её любимая дочь и вы после катастрофы не исчезли в небытие, а попали сюда. Приглядитесь к друзьям вашего тестя...
Володя встал:
– Вы правы – меня там ждут. – И уже от порога низко склонил голову. – Превеликое вам спасибо за всё.
Большая комната, в которой днём играли в домино, теперь была отгорожена от мрака ночи плотной шторой, надвинутой на оба окна. Во все лампы горела люстра, ярко освещая стол, накрытый свежей белой скатертью с густым бордовым рисунком. Поблескивали глубокие чаши с солёными грибочками, квашеной капустой и разноцветными салатами. Горкой на блюде громоздились отбивные котлеты и нарезанные пироги с острой, мясной, овощной и сладкой начинкой. В большом хрустальном графине с водкой уже недоставало доброй трети. Вокруг стола располагались та же мужская компания, Таня и Марья Семёновна, которые, увидев Володю, призывно замахали руками. Взяв протянутую рюмку, он присел рядом с женой, мягко обняв её свободной рукой за плечи. Таня вскинула голову, их взгляды встретились, возобновив – в бесконечной череде вопрошаний и ответов – когда-то прерванный полёт. На секунду скосив на них глаза, тесть, дородной фигурой громоздясь над столом, продолжил тост, бережно удерживая в своей огромной слесарской лапище хрустальную искру стопки:
– Я хочу выпить за то, други мои, чтобы мы всегда собирались за этим столом, – глаза Ивана Фёдоровича прищурились, взглядом как бы уходя в бескрайность этого «всегда». – И чтобы мы виделись и говорили друг с другом, и дети наши были с нами, и дома наши были полны.
– Да будет так, – эхом отозвалось из-за стола. И зазвенели сдвинутые бокалы.
Рассказ написан в конце 1990-х годов. Для настоящей публикации автор заново отредактировал и несколько переработал текст летом 2025 года.
**







Врата Петровы
(будущая быль)
(будущая быль)

Я стар и слеп, но с годами пришёл к некоторым интересным находкам о человеческой перспективе, а значит, и о злобе сегодняшнего дня, чем хотел бы поделиться с другими.