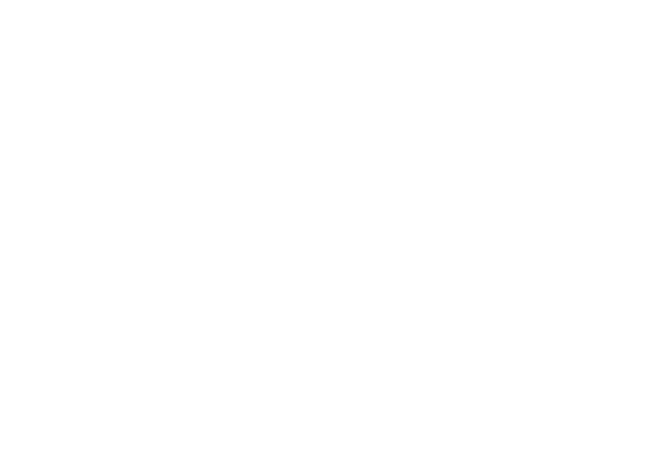Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Андрей Балабуха
(Россия,Санкт-Петербург)
(Россия,Санкт-Петербург)
Прекрасный человек Сергей Александрович! Когда я впервые в Кенигсберг (тьфу, простите великодушно, в Калининград!) приехал, он, немолодой уже человек, которому я в сыновья годился, известный писатель, встретил на вокзале, проводил в гостиницу, убедился, что устроили отменно, и лишь тогда откланялся со словами:
— Устраивайтесь, отдохните с дороги, а к четырем часам прошу к нам.
Прекрасный человек Сергей Александрович! Какой у него дом! Уютный, гостеприимный! И какую к водочке печеную картошку готовил — фирменное свое блюдо! А собеседник какой! Я ему про анекдотический случай рассказал.
Когда в армии служил, в ГДР, натолкнулся однажды на школьный исторический атлас. А там, на карте Европы XIV века, при впадении реки Прегель в Вислинский залив кружочек нарисован и написано вместо естественно ожидаемого Кёнигсберг-ин-Пройсен, представьте себе, — Калининград! Вот что значит стараться быть святее самого папы римского… И тут же получил подстать вопросец: а в честь какого, собственно, короля город Кенигсбергом наречен? И сел натуральнейшим образом в лужу. Стал мучительно перебирать в уме всех правителей, каких помню и какие подойти мало-мальски могут. Однако на память приходил только чешский Оттокар II Пржемысл, вроде как-то со здешними краями связанный, но, скорее всего, имелся в виду не он — чуялся за вопросом какой-то подвох.
Впрочем, тактичный Сергей Александрович никогда никого не заставлял в незнании расписываться, а потому сам же естественным образом превратил собственный вопрос в риторический и на него ответил. Напомнил, что цитадель городская (ныне, конечно же, личным повелением товарища Косыгина взорванная, на ее месте жуткое бетонно-партийное здание взгромоздили) называлась замком Трех Королей. Причем не светские владыки в виду имелись, нет, а те, кого мы в православной традиции тремя волхвами именуем — Балтазар, Гаспар и Мельхиор, пришедшие поклониться младенцу Христу. В европейских-то Библиях они не волхвами именуются, а королями… С тех пор на всю жизнь это запомнил.
Да, забыл сказать, вослед Николаю Васильевичу двигаясь: Сергей Александрович — конечно же, Козерюк по отцу, Штейн — по отчиму и Снегов — по псевдониму (ну а кто такой Николай Васильевич — сами знаете).
Нечасто мы со Снеговым встречались, к сожалению. Иногда он в Ленинград приезжал, живал временами в доме творчества писателей в Комарове; раза три или четыре я в Восточную Пруссию заглядывал — как правило, молитвами Бюро пропаганды художественной литературы, а то сводили нас какие-нибудь конвенты, вроде свердловской «Аэлиты». И всегда он рассказывал что-нибудь новое, интересное, неожиданное. Прирожденный сказитель, умел он устную речь выстроить и отточить не хуже, чем законченный литературный текст…
Очень хороший также человек Лев Николаевич, с которым меня Сергей Александрович после традиционных трех лет обещаний все-таки познакомил. Тут уж сразу скажу — не про Толстого, про Гумилева речь. Вот уж этот не миндальничал! При первой же встрече такой мне экзамен по истории учинил, что семь потов со всех семи шкур… Он-то, небось, считал, что вопросы задает на уровне первоклашки, а по мне, так не всяк аспирант бы выкрутился. Вот и я, наверное, тоже не выкрутился — просто пожалел меня Лев Николаевич. Снизошел, потому как всетаки не кто-нибудь, а Снегов меня к нему привел. А со Снеговым они, опять же по Гоголю, «такие между собою приятели, каких свет не производил».
Прекрасный человек Сергей Александрович. Очень хороший также человек Лев Николаевич. А где такие люди в Стране Советов сойтись скорее всего могли? Вестимо, в лагере.
Снегов был человеком разносторонне талантливым — не только литературно. И даже, я бы сказал, литературно в последнюю очередь — хронологически, имею в виду. Судите сами: не успел он еще окончить Одесского химико-физико-математического института, как специальным приказом наркома просвещения Украины был назначен на должность доцента кафедры философии. Ненадолго, впрочем — в его лекциях усмотрели отклонения от марксизма, и пришлось Сергею Александровичу перебираться с берегов Черного моря к Балтийским волнам и поступать инженером на ленинградский завод «Пирометр». Там его и взяли в 1936 году; как положено, если ни за что брали — давали десять лет лагерей. Сперва попал он на Соловки, в печально знаменитый лагерь-патриарх СЛОН, а оттуда — в Норлаг, нынешний на костях выросший Норильск. Освободилсяв сорок пятом, но еще десять лет работал там же, на Норильском горно-обогатительном комбинате, пока в 1955 году не был полностью реабилитирован, вскоре после чего и перебрался в Калининград. Но это я сильно забежал вперед.
Гумилевская судьба сложилась пунктирнее. В тридцать четвертом он поступил на истфак Ленинградского университета, но уже год спустя его арестовали. Выпустили, правда, сравнительно быстро, однако про университет — забудьте, вам не по чину. Но в тридцать седьмом, как ни странно, восстановили-таки — впрочем, лишь затем, чтобы через год взять снова. Дали пять лет и отправили в Норлаг. Освободился он в сорок третьем, но оставаться пришлось там же, в Норильске. Покинуть Крайний Север удалось, лишь сменив его на Первый Белорусский фронт. Вернувшийся из Берлина в Ленинград фронтовик в аспирантуру зачислен, конечно, был, однако диссертации защитить не успел — разве же в аспирантуре место сыну угодившей в опалу после Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Ахматовой? Пришлось поработать и библиотекарем в психиатрической клинике, и научным сотрудником в Горно-Алтайской экспедиции… И все-таки ухитрился в сорок восьмом кандидатскую защитить, а через несколько месяцев его опять укатали — на этот раз на семь лет, в лагеря под Карагандой и под Омском. Такая вот советская чехарда. Но я опять забежал вперед.
Потому что история, как поссорились Сергей Александрович со Львом Николаевичем, относится к тем годам, когда оба находились в Норлаге. Там-то и стали они закадычными друзьями. Но, в полном соответствии с классикой, до поры до времени.
Лагерная жизнь — это особый мир. В первую очередь, разумеется, ужасный. Но все-таки — целый мир. И, значит, в нем было место не только для смерти, горя и ненависти, но и для раздумий, любви, обретения Бога и даже для анекдота.
Мой крестный, сиделец с более чем двадцатилетним стажем, рассказывал, как в Перми, когда его под конвоем водили куда-то из лагеря в город (уж не помню, куда именно), то путь пролегал через рынок, где конвоир неизменно надирался до состояния риз, после чего крестному — зэку! — приходилось волочь здоровенного вохровца к месту назначения на себе, потому как любое иное решение означало бы обвинение в побеге.
Или вот еще. В предвоенные и военные годы наш коллега (имени называть пока не хочу, ибо ему будет посвящена отдельная байка) являлся разведчиком-нелегалом, работавшим, по его словам, и в Индонезии, и в Японии, и в Англии… А теперь с трех попыток догадайтесь: в каком отечественном статусе? В статусе расконвоированного
зэка.
Но вернемся к нашим сегодняшним героям.
То ли в 1942 году, то ли в начале 1943-го (тут воспоминания участников расходятся) энное число норлаговских сидельцев вознамерились провести… Что бы вы думали? Литературный конкурс. Более того, поэтический. Казалось бы, не самое, мягко говоря, подходящее время и место. Однако желающих участвовать сыскалось немало. Не знаю, кого именно выбрали в жюри — и людей, литературой интересующихся, и писателей, и писателей будущих там было вдосталь. Не знаю, как им удавалось доставать в лагере бумагу, как рукописи не пропали при неизбежных и регулярных шмонах.… Об этих подробностях мне не рассказали. Но организовано было по всем правилам: участники выступали под девизами, жюри оценивало их произведения по двенадцатибалльной шкале. Суть же интриги заключалась в следующем. Первое место на конкурсе занял Снегов. А Гумилев — то ли третье, то ли четвертое1. И обиделся так, что лучшие друзья перестали разговаривать и подавать друг другу руку.
Через несколько месяцев Лев Николаевич освободился, потом добился-таки отправки добровольцем на фронт… Так что встретились прекрасный человек Сергей Александрович и тоже очень хороший человек Лев Николаевич только в середине шестидесятых в Москве. Обида к тому времени не забылась, правда, но как-то себя изжила, так что разговор пошел у них дружеский. Будто и не было никогда той размолвки. Но Снегова все же мучило: почему? Ну скажите мне на милость, почему? Ведь не столь же по-дурацки тщеславен Лев Николаевич! Умный же человек, интеллигентный, талантливый… В чем же дело?
И при следующей встрече — еще через год, наверное, и уже в Ленинграде — не удержался, хотя вспоминать и не хотелось. Спросил. И тут Гумилев вспылил:
— Да какое ты имел право занимать первое место! Это мне положено было! Я же сын великого поэта! Сын великой поэтессы! Это мое, врожденное, к чему я имманентно предназначен. А ты? Ты же у меня пайку изо рта вырвал! Зачем тебе это? Ты ведь ученый, физик. И тогда считал, и сейчас повторяю: несправедливо это! Неправильно!
В действительности тирада была значительно пространнее, даже пересказ занимал минуты три, но полагаю, и такого реферативного изложения довольно. И что здесь самое любопытное: разразился сей ламентацией Лев Николаевич — ученый, кандидат исторических наук, автор монографий «Хунны» и «Древние тюрки». А слушал его Сергей Александрович — член Союза писателей СССР, известный писатель-реалист, только что дебютировавший в научной фантастике рассказом «Тридцать три обличья профессора Крена» и ожидающий вскорости выхода в свет романа «Галактическая разведка» —
первой книги эпической трилогии «Люди как боги».
Впрочем, будем справедливы: Снегов, хоть и выиграл тот лагерный конкурс, однако искренне верил в поэтическое дарование Гумилева-младшего. Как-то раз, повстречавшись в Доме творчества в Голицыно с Анной Ахматовой, он даже пытался убедить весьма скептически относившуюся к опусам сына поэтессу в ее неправоте. Та горячилась и требовала не отвлекать Льва Николаевича от научного творчества.
В действительности правы были все трое. Историк Гумилев и в своих научных трудах оставался писателем, которого полет воображения, идея, логика сюжета уводили иной раз очень далеко от академической стези. Снегов же не зря стал одним из столпов научной фантастики, ибо не только писателем был, но по складу ума и души оставался все-таки ученым. Справедливости ради замечу: ни Сергей Александрович, ни Лев Николаевич ни с тем, ни с другим ни за что бы не согласились.
-------------------------------------------
1 Вообще норильский период оказался для Гумилева-поэта самым плодотворным. Здесь он сочинил историческую драму в стихах о Чингисхане («Смерть князя Джамухи»), две поэмы-сказки («Посещение Асмодея, или Осенняя сказка» и «Волшебные папиросы, или Зимняя сказка»), а также немало стихов, не говоря уже о рассказах «Герой Эль-Кабрилло» и «Тадду-вакка». Говорю сочинил, поскольку большую часть всего этого он не записывал, а — поразительное дело! — запоминал наизусть. Лишь в конце семидесятых жена, Наталия Викторовна Гумилева, уговорила Льва Николаевича записать их. Опубликовано же все это было лишь в начале девяностых годов.
Из книги "Байки от Балабухи".
**
— Устраивайтесь, отдохните с дороги, а к четырем часам прошу к нам.
Прекрасный человек Сергей Александрович! Какой у него дом! Уютный, гостеприимный! И какую к водочке печеную картошку готовил — фирменное свое блюдо! А собеседник какой! Я ему про анекдотический случай рассказал.
Когда в армии служил, в ГДР, натолкнулся однажды на школьный исторический атлас. А там, на карте Европы XIV века, при впадении реки Прегель в Вислинский залив кружочек нарисован и написано вместо естественно ожидаемого Кёнигсберг-ин-Пройсен, представьте себе, — Калининград! Вот что значит стараться быть святее самого папы римского… И тут же получил подстать вопросец: а в честь какого, собственно, короля город Кенигсбергом наречен? И сел натуральнейшим образом в лужу. Стал мучительно перебирать в уме всех правителей, каких помню и какие подойти мало-мальски могут. Однако на память приходил только чешский Оттокар II Пржемысл, вроде как-то со здешними краями связанный, но, скорее всего, имелся в виду не он — чуялся за вопросом какой-то подвох.
Впрочем, тактичный Сергей Александрович никогда никого не заставлял в незнании расписываться, а потому сам же естественным образом превратил собственный вопрос в риторический и на него ответил. Напомнил, что цитадель городская (ныне, конечно же, личным повелением товарища Косыгина взорванная, на ее месте жуткое бетонно-партийное здание взгромоздили) называлась замком Трех Королей. Причем не светские владыки в виду имелись, нет, а те, кого мы в православной традиции тремя волхвами именуем — Балтазар, Гаспар и Мельхиор, пришедшие поклониться младенцу Христу. В европейских-то Библиях они не волхвами именуются, а королями… С тех пор на всю жизнь это запомнил.
Да, забыл сказать, вослед Николаю Васильевичу двигаясь: Сергей Александрович — конечно же, Козерюк по отцу, Штейн — по отчиму и Снегов — по псевдониму (ну а кто такой Николай Васильевич — сами знаете).
Нечасто мы со Снеговым встречались, к сожалению. Иногда он в Ленинград приезжал, живал временами в доме творчества писателей в Комарове; раза три или четыре я в Восточную Пруссию заглядывал — как правило, молитвами Бюро пропаганды художественной литературы, а то сводили нас какие-нибудь конвенты, вроде свердловской «Аэлиты». И всегда он рассказывал что-нибудь новое, интересное, неожиданное. Прирожденный сказитель, умел он устную речь выстроить и отточить не хуже, чем законченный литературный текст…
Очень хороший также человек Лев Николаевич, с которым меня Сергей Александрович после традиционных трех лет обещаний все-таки познакомил. Тут уж сразу скажу — не про Толстого, про Гумилева речь. Вот уж этот не миндальничал! При первой же встрече такой мне экзамен по истории учинил, что семь потов со всех семи шкур… Он-то, небось, считал, что вопросы задает на уровне первоклашки, а по мне, так не всяк аспирант бы выкрутился. Вот и я, наверное, тоже не выкрутился — просто пожалел меня Лев Николаевич. Снизошел, потому как всетаки не кто-нибудь, а Снегов меня к нему привел. А со Снеговым они, опять же по Гоголю, «такие между собою приятели, каких свет не производил».
Прекрасный человек Сергей Александрович. Очень хороший также человек Лев Николаевич. А где такие люди в Стране Советов сойтись скорее всего могли? Вестимо, в лагере.
Снегов был человеком разносторонне талантливым — не только литературно. И даже, я бы сказал, литературно в последнюю очередь — хронологически, имею в виду. Судите сами: не успел он еще окончить Одесского химико-физико-математического института, как специальным приказом наркома просвещения Украины был назначен на должность доцента кафедры философии. Ненадолго, впрочем — в его лекциях усмотрели отклонения от марксизма, и пришлось Сергею Александровичу перебираться с берегов Черного моря к Балтийским волнам и поступать инженером на ленинградский завод «Пирометр». Там его и взяли в 1936 году; как положено, если ни за что брали — давали десять лет лагерей. Сперва попал он на Соловки, в печально знаменитый лагерь-патриарх СЛОН, а оттуда — в Норлаг, нынешний на костях выросший Норильск. Освободилсяв сорок пятом, но еще десять лет работал там же, на Норильском горно-обогатительном комбинате, пока в 1955 году не был полностью реабилитирован, вскоре после чего и перебрался в Калининград. Но это я сильно забежал вперед.
Гумилевская судьба сложилась пунктирнее. В тридцать четвертом он поступил на истфак Ленинградского университета, но уже год спустя его арестовали. Выпустили, правда, сравнительно быстро, однако про университет — забудьте, вам не по чину. Но в тридцать седьмом, как ни странно, восстановили-таки — впрочем, лишь затем, чтобы через год взять снова. Дали пять лет и отправили в Норлаг. Освободился он в сорок третьем, но оставаться пришлось там же, в Норильске. Покинуть Крайний Север удалось, лишь сменив его на Первый Белорусский фронт. Вернувшийся из Берлина в Ленинград фронтовик в аспирантуру зачислен, конечно, был, однако диссертации защитить не успел — разве же в аспирантуре место сыну угодившей в опалу после Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Ахматовой? Пришлось поработать и библиотекарем в психиатрической клинике, и научным сотрудником в Горно-Алтайской экспедиции… И все-таки ухитрился в сорок восьмом кандидатскую защитить, а через несколько месяцев его опять укатали — на этот раз на семь лет, в лагеря под Карагандой и под Омском. Такая вот советская чехарда. Но я опять забежал вперед.
Потому что история, как поссорились Сергей Александрович со Львом Николаевичем, относится к тем годам, когда оба находились в Норлаге. Там-то и стали они закадычными друзьями. Но, в полном соответствии с классикой, до поры до времени.
Лагерная жизнь — это особый мир. В первую очередь, разумеется, ужасный. Но все-таки — целый мир. И, значит, в нем было место не только для смерти, горя и ненависти, но и для раздумий, любви, обретения Бога и даже для анекдота.
Мой крестный, сиделец с более чем двадцатилетним стажем, рассказывал, как в Перми, когда его под конвоем водили куда-то из лагеря в город (уж не помню, куда именно), то путь пролегал через рынок, где конвоир неизменно надирался до состояния риз, после чего крестному — зэку! — приходилось волочь здоровенного вохровца к месту назначения на себе, потому как любое иное решение означало бы обвинение в побеге.
Или вот еще. В предвоенные и военные годы наш коллега (имени называть пока не хочу, ибо ему будет посвящена отдельная байка) являлся разведчиком-нелегалом, работавшим, по его словам, и в Индонезии, и в Японии, и в Англии… А теперь с трех попыток догадайтесь: в каком отечественном статусе? В статусе расконвоированного
зэка.
Но вернемся к нашим сегодняшним героям.
То ли в 1942 году, то ли в начале 1943-го (тут воспоминания участников расходятся) энное число норлаговских сидельцев вознамерились провести… Что бы вы думали? Литературный конкурс. Более того, поэтический. Казалось бы, не самое, мягко говоря, подходящее время и место. Однако желающих участвовать сыскалось немало. Не знаю, кого именно выбрали в жюри — и людей, литературой интересующихся, и писателей, и писателей будущих там было вдосталь. Не знаю, как им удавалось доставать в лагере бумагу, как рукописи не пропали при неизбежных и регулярных шмонах.… Об этих подробностях мне не рассказали. Но организовано было по всем правилам: участники выступали под девизами, жюри оценивало их произведения по двенадцатибалльной шкале. Суть же интриги заключалась в следующем. Первое место на конкурсе занял Снегов. А Гумилев — то ли третье, то ли четвертое1. И обиделся так, что лучшие друзья перестали разговаривать и подавать друг другу руку.
Через несколько месяцев Лев Николаевич освободился, потом добился-таки отправки добровольцем на фронт… Так что встретились прекрасный человек Сергей Александрович и тоже очень хороший человек Лев Николаевич только в середине шестидесятых в Москве. Обида к тому времени не забылась, правда, но как-то себя изжила, так что разговор пошел у них дружеский. Будто и не было никогда той размолвки. Но Снегова все же мучило: почему? Ну скажите мне на милость, почему? Ведь не столь же по-дурацки тщеславен Лев Николаевич! Умный же человек, интеллигентный, талантливый… В чем же дело?
И при следующей встрече — еще через год, наверное, и уже в Ленинграде — не удержался, хотя вспоминать и не хотелось. Спросил. И тут Гумилев вспылил:
— Да какое ты имел право занимать первое место! Это мне положено было! Я же сын великого поэта! Сын великой поэтессы! Это мое, врожденное, к чему я имманентно предназначен. А ты? Ты же у меня пайку изо рта вырвал! Зачем тебе это? Ты ведь ученый, физик. И тогда считал, и сейчас повторяю: несправедливо это! Неправильно!
В действительности тирада была значительно пространнее, даже пересказ занимал минуты три, но полагаю, и такого реферативного изложения довольно. И что здесь самое любопытное: разразился сей ламентацией Лев Николаевич — ученый, кандидат исторических наук, автор монографий «Хунны» и «Древние тюрки». А слушал его Сергей Александрович — член Союза писателей СССР, известный писатель-реалист, только что дебютировавший в научной фантастике рассказом «Тридцать три обличья профессора Крена» и ожидающий вскорости выхода в свет романа «Галактическая разведка» —
первой книги эпической трилогии «Люди как боги».
Впрочем, будем справедливы: Снегов, хоть и выиграл тот лагерный конкурс, однако искренне верил в поэтическое дарование Гумилева-младшего. Как-то раз, повстречавшись в Доме творчества в Голицыно с Анной Ахматовой, он даже пытался убедить весьма скептически относившуюся к опусам сына поэтессу в ее неправоте. Та горячилась и требовала не отвлекать Льва Николаевича от научного творчества.
В действительности правы были все трое. Историк Гумилев и в своих научных трудах оставался писателем, которого полет воображения, идея, логика сюжета уводили иной раз очень далеко от академической стези. Снегов же не зря стал одним из столпов научной фантастики, ибо не только писателем был, но по складу ума и души оставался все-таки ученым. Справедливости ради замечу: ни Сергей Александрович, ни Лев Николаевич ни с тем, ни с другим ни за что бы не согласились.
-------------------------------------------
1 Вообще норильский период оказался для Гумилева-поэта самым плодотворным. Здесь он сочинил историческую драму в стихах о Чингисхане («Смерть князя Джамухи»), две поэмы-сказки («Посещение Асмодея, или Осенняя сказка» и «Волшебные папиросы, или Зимняя сказка»), а также немало стихов, не говоря уже о рассказах «Герой Эль-Кабрилло» и «Тадду-вакка». Говорю сочинил, поскольку большую часть всего этого он не записывал, а — поразительное дело! — запоминал наизусть. Лишь в конце семидесятых жена, Наталия Викторовна Гумилева, уговорила Льва Николаевича записать их. Опубликовано же все это было лишь в начале девяностых годов.
Из книги "Байки от Балабухи".
**







Повесть о том, как поссорились
Сергей Александрович
со Львом Николаевичем
Сергей Александрович
со Львом Николаевичем