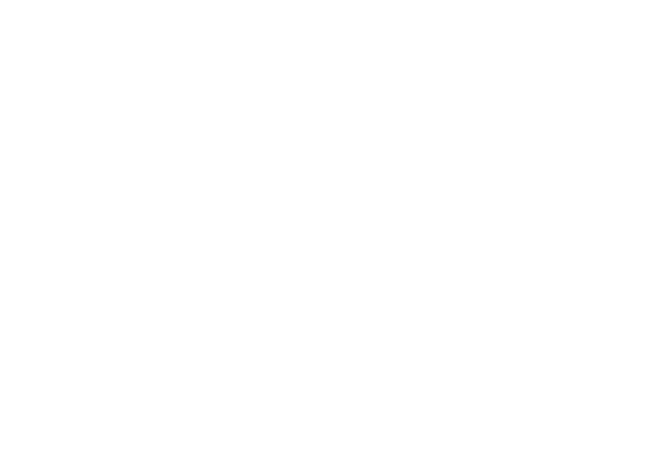Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Руслан Бекуров (Россия, Санкт-Петербург)
Мой папа. Он добрый. И мало говорит. А если и скажет что-нибудь, хуже не придумаешь.
Мы привыкли думать, что отцы мудрые и бесконечно рассуждают о жизни – ну, там, делятся своим опытом, дают советы. Почему-то нам кажется, что вот именно такими они и бывают. Наверное, мы насмотрелись киношек разных, книжек начитались. Там так и случается – отцы спасают. В основном, конечно, словом. Или деньгами. Связями, в конце концов.
Нет, папа не такой. Обычный мужчина со своими тараканами. У него немало дурацких привычек, но от этого я люблю его еще больше.
Никогда не слышал чего-то плохого о нем от других. А от себя – тем более. Не супер-тема для хвастовства, конечно, но когда плохо и половина прыщавого мира против тебя – это самое то. САМОЕ ТО.
Папа позвонил утром. Я еще валялся в постели, и перед тем как наконец ответить, глотнул старой теплой воды из пластиковой бутылки. Если честно, когда похмелье, не очень хочется болтать по телефону. Даже с папой. «Прилетай на выходные. Мне не с кем косить», – вот так он выразил свою основную мысль. Без вводной части (как ты, как погода, что поел) и плавных переходов. Ей богу, из него бы вышел хороший копирайтер. Я протер глаза и попытался сменить тему, пока искал сигареты. Но когда закурил, снова услышал этот жесткий, но очень любимый голос:
– Так ты приедешь или нет?
У папы и его старых друзей есть традиция. Каждый год в конце июля они косят траву. В Дигорском ущелье. Недалеко от Дзинаги. Они косят эту чертову дигорскую траву уже шестьдесят третий год – папа, дядя Алибек и человек с обычным осетинским именем Иерусалим. У него уши, как гигантские хинкали. В детстве я бегал за ним с вилкой.
– Слушай, па, а как же дядя Алибек и Иерусалим? – я хватался за последнюю невидимую соломинку.
– Алибек не поедет. У него жена в больнице. А Иерусалим, если что, умер еще в прошлом году. И, как ты понимаешь, тоже не поедет. Никто не поедет. Даже ты.
– Ладно тебе, я же не сказал, что не еду. Дай пару часов – подумаю.
Я еще долго сидел на подоконнике и смотрел на двор, где какой-то мальчишка висел на турнике вниз головой и, раскачиваясь, ел палочкой щербет в бумажном стаканчике.
Вечером за полминуты собрал сумку – джинсы, две рубашки, поло, трусы, носки, кеды и духи для мамы. Вызвал такси и ждал его в летней кафешке напротив дома – курил и пил двойной эспрессо. Чувствовал себя хорошо. Так и бывает, когда уезжаешь налегке.
А еще я люблю с видом уставшего от жизни человека смотреть на взлетную полосу. Мне кажется, что в такие моменты я похож на Камю. Или героя Олега Ефремова в фильме «Мой младший брат».
В бесланском аэропорту ничего не меняется. Он как Тихий океан – слишком ленивый, чтобы меняться. Такой же ленивый, как таксисты, вальяжно рассматривающие прилетевших. Они крутят на пальцах свои брелоки, и чертики из капельницы висят на зеркалах их беспечных драндулетов. Мне кажется, у таксистов совсем другая идентификация людей. Меня они оценили в «штуку». Я и не сопротивлялся.
Когда проезжали мимо Города Ангелов, таксист остановился, чтобы помолиться. Я открыл окно. Было жарко, и в плавленом асфальте сверкали кусочки бутылочного стекла. На руку села божья коровка. Я протянул руку к небу: «Божья коровка, улети на небо. Там – твои дети». Она осторожно раскрыла крылья и улетела в сторону могил. «ТАМ – мои дети».
Таксист вернулся с мокрыми глазами и по дороге до города долго рассказывал о своих племянниках, которые остались ТАМ. Я слушал его и смотрел в окно – выжженная трава, подсолнухи. За ними бежали сливовые деревья, тополя, завод «Исток», женщины с ведрами алычи, большие и маленькие дома, железная дорога, бензозаправки, хинкальные, светло-синие контуры гор. Потом наконец я увидел Фатиму с солнцем в руках. В детстве мне казалось, что она бросает из аута мяч. Тогда мы только о футболе и думали.
– Ну привет, – сказал я, когда дверь открыла мама.
Папа сидел в хадзаре. В жару в хадзаре было прохладно, и дворовые мужчины обычно резались там в домино и шахматы. На полке над длинным грубо сколоченным деревянным столом покоился старый бронзовый бюст Сталина, а ниже в стене на гвоздях висели большие сковородки и котлы. Пахло аракой и мясом.
Папа играл в шахматы с дядей Кудабертом в самом конце стола. Я поздоровался с мужчинами. Каждый спрашивал о жизни и, конечно, о том, почему до сих пор не женился.
– Когда свадьба?
– Позавчера была.
– И нам не сказал?
– Думал, вы знали!
Папа поставил мат, и мы пошли домой.
Странно просыпаться в пять утра в комнате, где прошло детство. Лежишь на раскладном диване, закутавшись в толстое домашнее одеяло. Смотришь в потолок и разглядываешь каждую трещинку. Грустно бывает в пять утра.
Вот в 5.01 уже лучше. Намного лучше.
Мы выехали рано утром, когда во дворе хромой молочник начал продавать свежее молоко. За руль сел мой старший двоюродный брат Мурат. Скромный, красивый, с «золотыми» руками. Отец троих детей. «Умница», – как любит повторять моя мама, наверное намекая на МОЮ никчемность.
– Привет, как ты? — сказал Мурат.
– Как я?
– Ну хотя бы похвастайся чем-нибудь!
– А разве есть чем?
Мы ехали молча. Лишь иногда папа о чем-то спрашивал Мурата, или Мурат рассказывал какую-нибудь историю. А я для них будто и не существовал. Временами казалось, что меня везут на расстрел.
Они завели разговор о какой-то «очень хорошей девушке» из Лескена. В итоге решили нас познакомить. Мурат даже придумал хитроумный план.
– Эй, ау, я здесь, если что! Меня спросить не хотите? – возмутился я.
– Мы тут о тебе, а не с тобой разговариваем, – ответил папа.
В Дигоре мы остановились возле киоска. Папа купил свежих газет и последний номер «Дарьяла». Старушка в киоске узнала его. Учились в одном классе. Они болтали минут двадцать. Мы с Муратом вышли покурить.
– Как Альбина, дети? – спросил я Мурата.
– Нормально, не жалуются! – ответил он. – Дети вот вчера ласточку спасли.
– Как это?
– Отобрали ее у кошки. Сплели из веток уютное гнездо на балконе. И теперь их волнует лишь один вопрос – девочка это или мальчик.
– Неплохо, – зачем-то сказал я.
Тут наконец подошел папа, и мы поехали дальше.
В Дзинаге заняли один из домов. Тот, который был ближе к речке. Мурат сюда часто приезжал – почти каждые выходные. Альбина так и рассказывала: «Его хлебом не корми – дай только в горы сорваться». Прошлым летом он поменял крышу и поставил спутниковую антенну. А еще пол-августа возился с фамильной башней. Привозил камни, месил цемент.
В доме были две смежные комнаты и пахло свежей ежевикой. Я до сих чувствую тот запах. И не знаю, почему тогда мне казалось, что пахло ежевикой.
В большой комнате скрипел пол и старый шифоньер. В маленькой комнате имелась кровать, на ней – гигантские подушки, которые любят в осетинских селах.
На стене висели портреты бабушки, дедушки и кого-то еще. Я стеснялся спросить папу, кто эти люди. Меня выручил Мурат:
– Это вот – Мирон, брат твоего деда. Погиб еще до войны. Сорвался со скалы.
– Он был хорошим охотником, – сказал папа. – Узнал его?
– Еще бы! – соврал я.
– А это – я.
С портрета на меня смотрел подросток с дерзкой челкой, в телогрейке и с самопальной удочкой в левой руке.
– Па, так ты у меня рыболов?
– Твой отец был чемпионом Дигорского ущелья по рыбной ловле! – сказал Мурат.
– Сомнительный титул, – папа улыбнулся и посмотрел в окно на речку. – Кстати, что с форелью? Есть еще? Бывало, поднимешь камень в потоке, а под ним – форелина размером с голову.
Голова у папы большая. Он и сам – не маленький. Я перерос его только на втором курсе института. «У них вся порода такая», – мамина любимая фраза.
Я часто думал о том, вот с чего она когда-то его полюбила. Гигантская лысая башка (он рано потерял волосы), огромный мясистый нос («без кости», как шутил Мурат), дурацкие привычки и странная манера выражать свои мысли.
Мама редко об этом говорила, ну и я особо не спрашивал. Но вот ее сестра (моя тетя) рассказывала, что в первый раз они увидели папу на танцплощадке в парке. На нем были польские джинсы, нейлоновая рубашка, а на шее висела пара боксерских перчаток. Он подошел к ним и сказал маме: «Я понравлюсь тебе. Только потерпи немного».
Другие детали тетя подзабыла. Вот джинсы и нейлоновую рубашку помнит, а про остальное – нет.
Пока папа переодевался, а Мурат с кем-то болтал по телефону, я сидел на скамейке и курил. К моим ногам из-за дома вальяжно приполз ежик на карликовых лапках. Я зашел в дом, налил немного молока в старое блюдце и вернулся к нему.
– Зачем даешь ему молоко? – спросил Мурат.
– В детстве в Геленджике у нас был ежик.
– Так в детстве или в Геленджике? Ты уж определись как-нибудь!
– Так вот, он приходил каждое утро из леса. Пить молоко. Пил и уходил. Без лобзаний и угрызений совести. С тех пор мне кажется, это идеальная модель поведения. Пей и уходи.
– Прекрасно, философ! Вот только молоко для ежей – яд!
– Серьезно? Почему же тогда они так его любят?
– Ну, во-первых, никто их не спрашивал. А во-вторых, мы же тоже водку пьем. И ничего! Кстати, накатим по одной за приезд?
Так и сидели немного. Мы пили водку. А еж – молоко.
Вечером было холодно, очень холодно, и глаза слезились от дыма костра. Папа смотрел на огонь, временами подбрасывая сухие ветки. Я лежал на спине и смотрел на звезды. Где-то лаяла собака. На камне возле дома лежал букет эдельвейсов.
– Мурат принес. Для мамы. Дурак такой. Они засохнут до завтра, – ухмыльнулся папа.
– Я завтра еще соберу, – зачем-то сказал я.
– Завтра? Сомневаюсь.
Утром меня разбудил Мурат. Плеснул в лицо холодной водой. И не утро это было, а еще ночь.
Папа уже сидел одетый на кухне. Пил чай, следил за тем, как Мурат точил косы, и давал какие-то советы. На подошвах папиных ботинок были наклеены полоски от велосипедной камеры.
– Па, для чего это?
– Чтобы ноги по траве не скользили. Удобно. Отец когда-то подсказал.
– А как же я?
– Мурат даст тебе свои шиповки.
Для отца сенокос был праздником. В детстве я смеялся над этим, а позже понял – у каждого есть свой маленький бзик.
Когда косы были наточены, Мурат перевязал их алюминиевой проволокой. Папа закинул в старый рюкзак плед, еду и газеты. Рюкзак нес я, а папа с косами шел сзади. Мурат остался дома. У него аллергия на траву.
Мы шли по берегу речки. Потом перебежали ее по камням и поднялись на скалистый утес. Вот и солнце появилось из-за гор. Сказать, что было красиво? Горы, солнце – беспроигрышная штука. Но вот что странно – я редко скучаю по этим местам. Я и горы-то не очень люблю. Мне не хватает воды в горах. Моря или какого-нибудь океана. Полуголых девушек, песка – вот это мое! А горы…
Где-то внизу из расщелины вышел тур. Наглец – он смотрел на нас, как мне тогда казалось, с каким-то презрительным равнодушием. Даже не думал прятаться.
– Тур! Смотри, па, какой красавец!
– Обычный козел.
Мы спустились вниз, потом еще долго шли по извилистой тропинке, обогнули овраг и наконец доползли до поля, над которым большими кругами парил орел.
– Красивое поле, – сказал я, сбросив рюкзак на землю.
– Не поле, а луг, – сказал папа.
– Альпийский?
– Дигорский.
Мы расположилась в тени старого дерева. Папа повесил косы на ветку, взял плед из рюкзака и постелил его на траве. Пока я возился с шиповками, он разминал ноги и спину.
– Давай уже быстрее! – рявкнул он.
Мы разделись по пояс. Папа нацепил на голову носовой платок.
Косили зигзагами. Доходили до края и возвращались назад по еще не скошенной полосе. Папа немного показал мне, как косить.
– Ничего сложного! Поставь ноги так, чтобы между пятками было где-то полметра. Косишь в два приема. В первом случае ведешь косу слева направо, во втором при подрезке травы, наоборот, справа налево. Понял?
– Наверное.
– И не забывай прижимать косу близко к земле!
Я косил за папой, и первый отрезок дался мне легко. Уже на втором заныли руки и ноги. На третьем – я еле полз.
– Не спеши – один-два взмаха, потом правая нога вперед, еще парочка взмахов – продвигаешь левую!
Когда мы дошли до середины луга, открылось второе дыхание. Я и не заметил, как мы закончили.
– Па, долго мы косили?
– Часа три – не меньше. А ты не такой дохляк, как я думал, – папа похлопал меня по плечу. – Немного отдохнем, а потом соберем скошенную траву и пойдем на другую поляну.
Мы оставили косы под деревом, взяли рюкзак и плед, вернулись к речке и спрятались от жары за валуном.
Папа аккуратно разложил еду на плоском белом камне. Полкруга сыра, зеленый лук, молодая крапива и вареные яйца.
– Не наедайся особо, – сказал папа.
– Почему?
– С сытостью приходит лень.
– Я-то подумал, ты хочешь, чтобы тебе больше осталось.
Папа сворачивал кусочки сыра в крапиву, а я ел яйца с солью. Запивали ледяной водой с родника. Потом немного лежали.
– А что у тебя с Викой? – спросил папа. Я ждал этого разговора.
– С Викой? Разошлись потихоньку. Друзья посоветовали.
– Хорошие решения человек принимает в одиночестве. Плохие же – по совету друзей.
– Ну не знаю…
– Влюбляться – это как прыгать в бассейн без воды. Ты когда-нибудь прыгал в бассейн без воды?
– Нет, конечно!
– А я прыгал! Знал, что воды нет, и прыгал. Вниз головой!
– Зачем?
– Зачем? Сам когда-нибудь поймешь. Поймешь и прыгнешь. Бывают такие моменты.
– Какие?
– Когда глупость – тоже поступок. Настоящие поступки – здесь, – папа положил руку на мою грудь. – Здесь, а не в голове.
– Фу, па, ну это же Коэльо какой-то!
– Какой такой Коэльо?
Папа повернулся на бок и заснул. На его спине слезала кожа. В детстве я любил обдирать на нем кожу. Особенно, когда получалось «вести» ее аккуратно без разрывов, долго-долго.
Я лежал, смотрел на папину спину и ни о чем не думал. В теле была комфортная усталость, в воздухе пахло сыром и свежей травой, и над валуном порхали две бабочки-лимонницы. Я чувствовал в себе пустое счастье.
На другом лугу мы уже косили отдельно. Папа с одного конца, я – с другого. Очень скоро я едва дышал. То ли от монотонных движений, то ли от жары. Колени сгибались. И иногда заносило.
Папа же как ни в чем не бывало размахивал широко, «пускал» косу свободно, не поднимал ее и не рубил как топором. Носовой платок на его голове был черным от пота.
– Па, я, кажется, сдох.
– Следи за дыханием! Выбери ритм. Заносишь косу вправо – вдох, влево – выдох.
Я кое-как прошел еще пару раз туда и обратно, а потом сдался. Сел под деревом, закурил и смотрел на папу.
Тяп-ляп. Такое чувство, будто чем бы я ни занимался, получается кое-как. Тяп-ляп. Вот думаешь, ерунда – прокатит и так. А потом еще. И еще.
И прокатывает же, черт возьми! Каждый раз. А к этому привыкаешь. И не замечаешь, что фигачишь ерунду – думаешь, ну если других устраивает, для чего заморачиваться больше?
А папа даже косит так, будто от этого зависит судьба мира. По-честному. И вот если он не закончит этот луг сегодня, планета полетит в тартарары.
Когда стемнело, мы собрали вещи и поплелись домой. Точнее, плелся я. Папа же нес косы и шел так, будто и не было безумного дня.
– Живешь один непонятно где. Слушаешь никчемные советы никчемных друзей. Нет, долго ты так не протянешь.
– Знаешь, па, мне часто снится один и тот же сон. Вот, например, война. И я сижу в своей дурацкой съемной квартире и думаю: идти на фронт или нет. Вроде как стыдно не идти, а с другой стороны – это же МОЯ жизнь. Для чего умирать? Зачем? И вот просыпаюсь я в холодном поту и думаю, какой же я дурацкий человечек. Трус. Отрезанный ломоть какой-то. На что я способен? Какие подвиги бы совершил? Даже тебе за меня стыдно.
– Это перед кем мне за тебя стыдно?
– Ну я же вижу, как ты стесняешься меня, что ли. Перед своими братьями. Перед мужиками со двора. Языка не знаю, традиций. Без жены, без детей. Квартиры нет. И тачки. И черных лаковых туфель…
– Придурок, война и лаковые туфли – как бы разные вещи. Меня, конечно, многое в тебе раздражает, но чтобы было стыдно…
На следующее утро мы вернулись в город. Мурат собрал нашу траву на лугах и раздал ее людям в селе. Сена было немного, но и людей в селе было немного. Тем более коров.
Дома ждала мама. Папа сразу же завалился на диван и в секунду заснул. Мы сидели с мамой за столом и слушали, как он храпит.
– Смотри-ка на него — аж помолодел! – сказала мама. – Твой папа будет жить, пока есть с кем косить.
Мама положила в мою тарелку еще два треугольника уалибаха.
– Так ты приедешь следующим летом?
– Нет, ма.
Я откусил кусочек пирога. Посмотрел на маму. На папу. На большой пожелтевший глобус, который они подарили мне, когда я пошел в первый класс. На уалибахи. На графин маминого компота.
– Почему? – спросила мама.
– Потому что я и не уеду.
Папа улыбался во сне.
**
Мы привыкли думать, что отцы мудрые и бесконечно рассуждают о жизни – ну, там, делятся своим опытом, дают советы. Почему-то нам кажется, что вот именно такими они и бывают. Наверное, мы насмотрелись киношек разных, книжек начитались. Там так и случается – отцы спасают. В основном, конечно, словом. Или деньгами. Связями, в конце концов.
Нет, папа не такой. Обычный мужчина со своими тараканами. У него немало дурацких привычек, но от этого я люблю его еще больше.
Никогда не слышал чего-то плохого о нем от других. А от себя – тем более. Не супер-тема для хвастовства, конечно, но когда плохо и половина прыщавого мира против тебя – это самое то. САМОЕ ТО.
Папа позвонил утром. Я еще валялся в постели, и перед тем как наконец ответить, глотнул старой теплой воды из пластиковой бутылки. Если честно, когда похмелье, не очень хочется болтать по телефону. Даже с папой. «Прилетай на выходные. Мне не с кем косить», – вот так он выразил свою основную мысль. Без вводной части (как ты, как погода, что поел) и плавных переходов. Ей богу, из него бы вышел хороший копирайтер. Я протер глаза и попытался сменить тему, пока искал сигареты. Но когда закурил, снова услышал этот жесткий, но очень любимый голос:
– Так ты приедешь или нет?
У папы и его старых друзей есть традиция. Каждый год в конце июля они косят траву. В Дигорском ущелье. Недалеко от Дзинаги. Они косят эту чертову дигорскую траву уже шестьдесят третий год – папа, дядя Алибек и человек с обычным осетинским именем Иерусалим. У него уши, как гигантские хинкали. В детстве я бегал за ним с вилкой.
– Слушай, па, а как же дядя Алибек и Иерусалим? – я хватался за последнюю невидимую соломинку.
– Алибек не поедет. У него жена в больнице. А Иерусалим, если что, умер еще в прошлом году. И, как ты понимаешь, тоже не поедет. Никто не поедет. Даже ты.
– Ладно тебе, я же не сказал, что не еду. Дай пару часов – подумаю.
Я еще долго сидел на подоконнике и смотрел на двор, где какой-то мальчишка висел на турнике вниз головой и, раскачиваясь, ел палочкой щербет в бумажном стаканчике.
Вечером за полминуты собрал сумку – джинсы, две рубашки, поло, трусы, носки, кеды и духи для мамы. Вызвал такси и ждал его в летней кафешке напротив дома – курил и пил двойной эспрессо. Чувствовал себя хорошо. Так и бывает, когда уезжаешь налегке.
А еще я люблю с видом уставшего от жизни человека смотреть на взлетную полосу. Мне кажется, что в такие моменты я похож на Камю. Или героя Олега Ефремова в фильме «Мой младший брат».
В бесланском аэропорту ничего не меняется. Он как Тихий океан – слишком ленивый, чтобы меняться. Такой же ленивый, как таксисты, вальяжно рассматривающие прилетевших. Они крутят на пальцах свои брелоки, и чертики из капельницы висят на зеркалах их беспечных драндулетов. Мне кажется, у таксистов совсем другая идентификация людей. Меня они оценили в «штуку». Я и не сопротивлялся.
Когда проезжали мимо Города Ангелов, таксист остановился, чтобы помолиться. Я открыл окно. Было жарко, и в плавленом асфальте сверкали кусочки бутылочного стекла. На руку села божья коровка. Я протянул руку к небу: «Божья коровка, улети на небо. Там – твои дети». Она осторожно раскрыла крылья и улетела в сторону могил. «ТАМ – мои дети».
Таксист вернулся с мокрыми глазами и по дороге до города долго рассказывал о своих племянниках, которые остались ТАМ. Я слушал его и смотрел в окно – выжженная трава, подсолнухи. За ними бежали сливовые деревья, тополя, завод «Исток», женщины с ведрами алычи, большие и маленькие дома, железная дорога, бензозаправки, хинкальные, светло-синие контуры гор. Потом наконец я увидел Фатиму с солнцем в руках. В детстве мне казалось, что она бросает из аута мяч. Тогда мы только о футболе и думали.
– Ну привет, – сказал я, когда дверь открыла мама.
Папа сидел в хадзаре. В жару в хадзаре было прохладно, и дворовые мужчины обычно резались там в домино и шахматы. На полке над длинным грубо сколоченным деревянным столом покоился старый бронзовый бюст Сталина, а ниже в стене на гвоздях висели большие сковородки и котлы. Пахло аракой и мясом.
Папа играл в шахматы с дядей Кудабертом в самом конце стола. Я поздоровался с мужчинами. Каждый спрашивал о жизни и, конечно, о том, почему до сих пор не женился.
– Когда свадьба?
– Позавчера была.
– И нам не сказал?
– Думал, вы знали!
Папа поставил мат, и мы пошли домой.
Странно просыпаться в пять утра в комнате, где прошло детство. Лежишь на раскладном диване, закутавшись в толстое домашнее одеяло. Смотришь в потолок и разглядываешь каждую трещинку. Грустно бывает в пять утра.
Вот в 5.01 уже лучше. Намного лучше.
Мы выехали рано утром, когда во дворе хромой молочник начал продавать свежее молоко. За руль сел мой старший двоюродный брат Мурат. Скромный, красивый, с «золотыми» руками. Отец троих детей. «Умница», – как любит повторять моя мама, наверное намекая на МОЮ никчемность.
– Привет, как ты? — сказал Мурат.
– Как я?
– Ну хотя бы похвастайся чем-нибудь!
– А разве есть чем?
Мы ехали молча. Лишь иногда папа о чем-то спрашивал Мурата, или Мурат рассказывал какую-нибудь историю. А я для них будто и не существовал. Временами казалось, что меня везут на расстрел.
Они завели разговор о какой-то «очень хорошей девушке» из Лескена. В итоге решили нас познакомить. Мурат даже придумал хитроумный план.
– Эй, ау, я здесь, если что! Меня спросить не хотите? – возмутился я.
– Мы тут о тебе, а не с тобой разговариваем, – ответил папа.
В Дигоре мы остановились возле киоска. Папа купил свежих газет и последний номер «Дарьяла». Старушка в киоске узнала его. Учились в одном классе. Они болтали минут двадцать. Мы с Муратом вышли покурить.
– Как Альбина, дети? – спросил я Мурата.
– Нормально, не жалуются! – ответил он. – Дети вот вчера ласточку спасли.
– Как это?
– Отобрали ее у кошки. Сплели из веток уютное гнездо на балконе. И теперь их волнует лишь один вопрос – девочка это или мальчик.
– Неплохо, – зачем-то сказал я.
Тут наконец подошел папа, и мы поехали дальше.
В Дзинаге заняли один из домов. Тот, который был ближе к речке. Мурат сюда часто приезжал – почти каждые выходные. Альбина так и рассказывала: «Его хлебом не корми – дай только в горы сорваться». Прошлым летом он поменял крышу и поставил спутниковую антенну. А еще пол-августа возился с фамильной башней. Привозил камни, месил цемент.
В доме были две смежные комнаты и пахло свежей ежевикой. Я до сих чувствую тот запах. И не знаю, почему тогда мне казалось, что пахло ежевикой.
В большой комнате скрипел пол и старый шифоньер. В маленькой комнате имелась кровать, на ней – гигантские подушки, которые любят в осетинских селах.
На стене висели портреты бабушки, дедушки и кого-то еще. Я стеснялся спросить папу, кто эти люди. Меня выручил Мурат:
– Это вот – Мирон, брат твоего деда. Погиб еще до войны. Сорвался со скалы.
– Он был хорошим охотником, – сказал папа. – Узнал его?
– Еще бы! – соврал я.
– А это – я.
С портрета на меня смотрел подросток с дерзкой челкой, в телогрейке и с самопальной удочкой в левой руке.
– Па, так ты у меня рыболов?
– Твой отец был чемпионом Дигорского ущелья по рыбной ловле! – сказал Мурат.
– Сомнительный титул, – папа улыбнулся и посмотрел в окно на речку. – Кстати, что с форелью? Есть еще? Бывало, поднимешь камень в потоке, а под ним – форелина размером с голову.
Голова у папы большая. Он и сам – не маленький. Я перерос его только на втором курсе института. «У них вся порода такая», – мамина любимая фраза.
Я часто думал о том, вот с чего она когда-то его полюбила. Гигантская лысая башка (он рано потерял волосы), огромный мясистый нос («без кости», как шутил Мурат), дурацкие привычки и странная манера выражать свои мысли.
Мама редко об этом говорила, ну и я особо не спрашивал. Но вот ее сестра (моя тетя) рассказывала, что в первый раз они увидели папу на танцплощадке в парке. На нем были польские джинсы, нейлоновая рубашка, а на шее висела пара боксерских перчаток. Он подошел к ним и сказал маме: «Я понравлюсь тебе. Только потерпи немного».
Другие детали тетя подзабыла. Вот джинсы и нейлоновую рубашку помнит, а про остальное – нет.
Пока папа переодевался, а Мурат с кем-то болтал по телефону, я сидел на скамейке и курил. К моим ногам из-за дома вальяжно приполз ежик на карликовых лапках. Я зашел в дом, налил немного молока в старое блюдце и вернулся к нему.
– Зачем даешь ему молоко? – спросил Мурат.
– В детстве в Геленджике у нас был ежик.
– Так в детстве или в Геленджике? Ты уж определись как-нибудь!
– Так вот, он приходил каждое утро из леса. Пить молоко. Пил и уходил. Без лобзаний и угрызений совести. С тех пор мне кажется, это идеальная модель поведения. Пей и уходи.
– Прекрасно, философ! Вот только молоко для ежей – яд!
– Серьезно? Почему же тогда они так его любят?
– Ну, во-первых, никто их не спрашивал. А во-вторых, мы же тоже водку пьем. И ничего! Кстати, накатим по одной за приезд?
Так и сидели немного. Мы пили водку. А еж – молоко.
Вечером было холодно, очень холодно, и глаза слезились от дыма костра. Папа смотрел на огонь, временами подбрасывая сухие ветки. Я лежал на спине и смотрел на звезды. Где-то лаяла собака. На камне возле дома лежал букет эдельвейсов.
– Мурат принес. Для мамы. Дурак такой. Они засохнут до завтра, – ухмыльнулся папа.
– Я завтра еще соберу, – зачем-то сказал я.
– Завтра? Сомневаюсь.
Утром меня разбудил Мурат. Плеснул в лицо холодной водой. И не утро это было, а еще ночь.
Папа уже сидел одетый на кухне. Пил чай, следил за тем, как Мурат точил косы, и давал какие-то советы. На подошвах папиных ботинок были наклеены полоски от велосипедной камеры.
– Па, для чего это?
– Чтобы ноги по траве не скользили. Удобно. Отец когда-то подсказал.
– А как же я?
– Мурат даст тебе свои шиповки.
Для отца сенокос был праздником. В детстве я смеялся над этим, а позже понял – у каждого есть свой маленький бзик.
Когда косы были наточены, Мурат перевязал их алюминиевой проволокой. Папа закинул в старый рюкзак плед, еду и газеты. Рюкзак нес я, а папа с косами шел сзади. Мурат остался дома. У него аллергия на траву.
Мы шли по берегу речки. Потом перебежали ее по камням и поднялись на скалистый утес. Вот и солнце появилось из-за гор. Сказать, что было красиво? Горы, солнце – беспроигрышная штука. Но вот что странно – я редко скучаю по этим местам. Я и горы-то не очень люблю. Мне не хватает воды в горах. Моря или какого-нибудь океана. Полуголых девушек, песка – вот это мое! А горы…
Где-то внизу из расщелины вышел тур. Наглец – он смотрел на нас, как мне тогда казалось, с каким-то презрительным равнодушием. Даже не думал прятаться.
– Тур! Смотри, па, какой красавец!
– Обычный козел.
Мы спустились вниз, потом еще долго шли по извилистой тропинке, обогнули овраг и наконец доползли до поля, над которым большими кругами парил орел.
– Красивое поле, – сказал я, сбросив рюкзак на землю.
– Не поле, а луг, – сказал папа.
– Альпийский?
– Дигорский.
Мы расположилась в тени старого дерева. Папа повесил косы на ветку, взял плед из рюкзака и постелил его на траве. Пока я возился с шиповками, он разминал ноги и спину.
– Давай уже быстрее! – рявкнул он.
Мы разделись по пояс. Папа нацепил на голову носовой платок.
Косили зигзагами. Доходили до края и возвращались назад по еще не скошенной полосе. Папа немного показал мне, как косить.
– Ничего сложного! Поставь ноги так, чтобы между пятками было где-то полметра. Косишь в два приема. В первом случае ведешь косу слева направо, во втором при подрезке травы, наоборот, справа налево. Понял?
– Наверное.
– И не забывай прижимать косу близко к земле!
Я косил за папой, и первый отрезок дался мне легко. Уже на втором заныли руки и ноги. На третьем – я еле полз.
– Не спеши – один-два взмаха, потом правая нога вперед, еще парочка взмахов – продвигаешь левую!
Когда мы дошли до середины луга, открылось второе дыхание. Я и не заметил, как мы закончили.
– Па, долго мы косили?
– Часа три – не меньше. А ты не такой дохляк, как я думал, – папа похлопал меня по плечу. – Немного отдохнем, а потом соберем скошенную траву и пойдем на другую поляну.
Мы оставили косы под деревом, взяли рюкзак и плед, вернулись к речке и спрятались от жары за валуном.
Папа аккуратно разложил еду на плоском белом камне. Полкруга сыра, зеленый лук, молодая крапива и вареные яйца.
– Не наедайся особо, – сказал папа.
– Почему?
– С сытостью приходит лень.
– Я-то подумал, ты хочешь, чтобы тебе больше осталось.
Папа сворачивал кусочки сыра в крапиву, а я ел яйца с солью. Запивали ледяной водой с родника. Потом немного лежали.
– А что у тебя с Викой? – спросил папа. Я ждал этого разговора.
– С Викой? Разошлись потихоньку. Друзья посоветовали.
– Хорошие решения человек принимает в одиночестве. Плохие же – по совету друзей.
– Ну не знаю…
– Влюбляться – это как прыгать в бассейн без воды. Ты когда-нибудь прыгал в бассейн без воды?
– Нет, конечно!
– А я прыгал! Знал, что воды нет, и прыгал. Вниз головой!
– Зачем?
– Зачем? Сам когда-нибудь поймешь. Поймешь и прыгнешь. Бывают такие моменты.
– Какие?
– Когда глупость – тоже поступок. Настоящие поступки – здесь, – папа положил руку на мою грудь. – Здесь, а не в голове.
– Фу, па, ну это же Коэльо какой-то!
– Какой такой Коэльо?
Папа повернулся на бок и заснул. На его спине слезала кожа. В детстве я любил обдирать на нем кожу. Особенно, когда получалось «вести» ее аккуратно без разрывов, долго-долго.
Я лежал, смотрел на папину спину и ни о чем не думал. В теле была комфортная усталость, в воздухе пахло сыром и свежей травой, и над валуном порхали две бабочки-лимонницы. Я чувствовал в себе пустое счастье.
На другом лугу мы уже косили отдельно. Папа с одного конца, я – с другого. Очень скоро я едва дышал. То ли от монотонных движений, то ли от жары. Колени сгибались. И иногда заносило.
Папа же как ни в чем не бывало размахивал широко, «пускал» косу свободно, не поднимал ее и не рубил как топором. Носовой платок на его голове был черным от пота.
– Па, я, кажется, сдох.
– Следи за дыханием! Выбери ритм. Заносишь косу вправо – вдох, влево – выдох.
Я кое-как прошел еще пару раз туда и обратно, а потом сдался. Сел под деревом, закурил и смотрел на папу.
Тяп-ляп. Такое чувство, будто чем бы я ни занимался, получается кое-как. Тяп-ляп. Вот думаешь, ерунда – прокатит и так. А потом еще. И еще.
И прокатывает же, черт возьми! Каждый раз. А к этому привыкаешь. И не замечаешь, что фигачишь ерунду – думаешь, ну если других устраивает, для чего заморачиваться больше?
А папа даже косит так, будто от этого зависит судьба мира. По-честному. И вот если он не закончит этот луг сегодня, планета полетит в тартарары.
Когда стемнело, мы собрали вещи и поплелись домой. Точнее, плелся я. Папа же нес косы и шел так, будто и не было безумного дня.
– Живешь один непонятно где. Слушаешь никчемные советы никчемных друзей. Нет, долго ты так не протянешь.
– Знаешь, па, мне часто снится один и тот же сон. Вот, например, война. И я сижу в своей дурацкой съемной квартире и думаю: идти на фронт или нет. Вроде как стыдно не идти, а с другой стороны – это же МОЯ жизнь. Для чего умирать? Зачем? И вот просыпаюсь я в холодном поту и думаю, какой же я дурацкий человечек. Трус. Отрезанный ломоть какой-то. На что я способен? Какие подвиги бы совершил? Даже тебе за меня стыдно.
– Это перед кем мне за тебя стыдно?
– Ну я же вижу, как ты стесняешься меня, что ли. Перед своими братьями. Перед мужиками со двора. Языка не знаю, традиций. Без жены, без детей. Квартиры нет. И тачки. И черных лаковых туфель…
– Придурок, война и лаковые туфли – как бы разные вещи. Меня, конечно, многое в тебе раздражает, но чтобы было стыдно…
На следующее утро мы вернулись в город. Мурат собрал нашу траву на лугах и раздал ее людям в селе. Сена было немного, но и людей в селе было немного. Тем более коров.
Дома ждала мама. Папа сразу же завалился на диван и в секунду заснул. Мы сидели с мамой за столом и слушали, как он храпит.
– Смотри-ка на него — аж помолодел! – сказала мама. – Твой папа будет жить, пока есть с кем косить.
Мама положила в мою тарелку еще два треугольника уалибаха.
– Так ты приедешь следующим летом?
– Нет, ма.
Я откусил кусочек пирога. Посмотрел на маму. На папу. На большой пожелтевший глобус, который они подарили мне, когда я пошел в первый класс. На уалибахи. На графин маминого компота.
– Почему? – спросила мама.
– Потому что я и не уеду.
Папа улыбался во сне.
**







Папа улыбался во сне

Я родился в 1974 году в г. Орджоникидзе (Владикавказ). Учился на факультете журналистики и иностранных языков СОГУ. Закончил аспирантуру СПбГУ. Кандидат медицинских наук. Был учителем, журналистом, переводчиком, грузчиком. Сейчас — доцент СПбГУ, руководитель бакалавриата «Международная журналистика». Автор 2 повестей и 2 сборников рассказов. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Дактиль», «Сибирские огни», «Дарьял». Женат, у нас двое детей. Живу в Санкт-Петербурге.