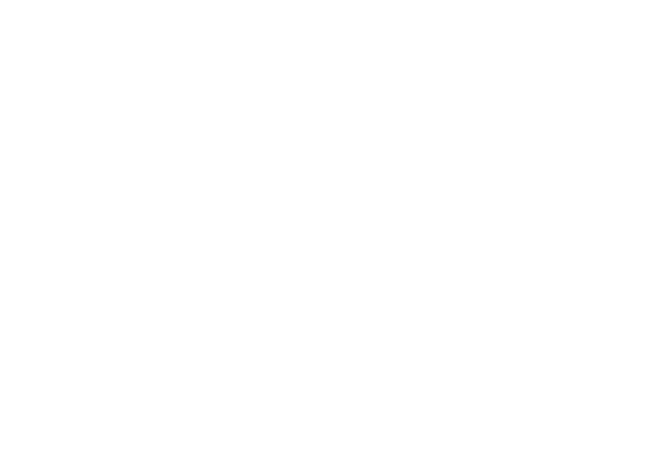Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Элла Аграновская (Эстония, Таллин)
Всю жизнь я занималась тем, что брала интервью у звезд, которые до недавнего времени именовались просто знаменитостями. Зачем мне это? – периодически спрашивала себя. Совершенно точно не затем, чтобы вступить с ними в дружеские отношения, ибо никогда не испытывала такой потребности. Вне всяких сомнений, не ради собственной известности, потому что загорать в лучах чужой славы – весьма сомнительное удовольствие. И уж, конечно, не ради заработка, который просто несоизмерим с нервными затратами на этом поприще.
С годами пришла к выводу, что искать ответ на этот вопрос бессмысленно и следует утешиться тем, что, видимо, мне просто интересно, без каких-либо вытекающих последствий, разумеется, если не считать последствиями ощущения, которые легли в памяти нерастворимым осадком.
На всех своих собеседников я смотрела с нескрываемым обожанием. Потому что выбирала только тех, кто интересовал лично меня. И вопросы задавала по своему разумению, а не потому, что было нужно. И публиковала только то, что писала, а не то, что вписывали. Потому что никто ничего не вписывал. Сейчас принято ругать время, в которое мы жили. Но мне безумно повезло: если что-то у меня не получилось, то вина в этом моя личная, а не тоталитарного режима. Справедливости ради замечу: он моими исканиями совершенно не интересовался.
А название книги – «Плаха для стрекозы, или С нескрываемым обожанием», в которую потом сложились воспоминания, подарила мне встреча с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским.
Иннокентий Смоктуновский:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? Я ХОРОШО ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ!
Лето 83-го выдалось нестерпимо жаркое. Публика рассредоточилась по дачам и пляжам. Казалось, в городе не осталось ни души. Меж тем приближались гастроли самого знаменитого московского театра, которые по традиции требовалось подготовить заранее. Честно говоря, в этом не было никакой нужды: билеты на спектакли МХАТа – того, прежнего, ефремовского МХАТа, еще не разгромленного изнурительной междоусобной войной – были раскуплены давным-давно. Еще бы! Иннокентий Смоктуновский, Марк Прудкин, Ангелина Степанова, Евгений Евстигнеев, Анастасия Вертинская, Александр Калягин, Станислав Любшин, Юрий Богатырев, Ирина Мирошниченко – даже не самые заядлые театралы горели желанием увидеть на сцене это блистательное созвездие.
Но мы с коллегой Этери Кекелидзе не отказали себе в удовольствии побывать на передовой этого счастья и, придав лицам выражение глубокой озабоченности – мол, без наших трудов не видать вам МХАТа! – отправились в Москву.
С нескрываемым обожанием
«Смоктуновский – гений!», – твердила я всю дорогу, пока Этери бдительно присматривала за нашим единственным сокровищем – нереальных размеров фирменным тортом «Таллинн», предназначенным для подкупа мхатовской дирекции.
Прямо с вокзала направились в Театральное общество к Евгению Рудакову – необыкновенно душевный и умный был человек, царствие ему небесное! Не успела Этери строго отчитаться перед своим старым приятелем о возложенной на нас миссии, как я заголосила прямо с порога: «Смоктуновский – гений! Ума не приложу, как к гению подступиться!» – и уставилась на Женю глазами чеховской Каштанки. Он слегка отступил в сторону и окинул нас профессиональным взглядом критика.
– Так! Ты, – он указал на Этери, – пойдешь в угол и будешь тихо записывать. А ты, – он ткнул пальцем в меня, – будешь смотреть на Мастера с нескрываемым обожанием. И смотрите, не перепутайте!
Впоследствии пришлось честно признаться Жене в том, что, войдя в образ, я очень напоминала идиотку из фильма «Тема» в исполнении артистки Селезневой. «Иннокентий Михайлович!» – с припадочным восторгом выдыхала я, пожирая Мастера обожающим взглядом. И небожитель распахивал передо мной свою непостижимую душу.
Женя Рудаков был очень деликатным человеком и тактично промолчал о том, что Смоктуновский – гений, и подыгрывает тоже гениально. Короче, входить в образ не было нужды – идиоткой и была.
У Смоктуновского только что закончилась репетиция. Мы поджидали его в кабинете завлита театра Анатолия Смелянского. Иннокентий Михайлович появился в дверях, обвел рассеянным взглядом пространство – и улыбнулся. В кабинете никого, кроме нас с Этери, не было. Но мне показалось, что улыбка адресована кому-то третьему. Я принялась было озираться, но тут же спохватилась и мысленно привела себя в чувство, мол, держи себя в руках, это же Смоктуновский!
Иннокентий Михайлович сказал несколько приветственных слов – и вдруг возникло ощущение, что его здесь нет, исчез куда-то. Я слегка встряхнула головой и снова мысленно приказала себе не сходить с ума: это Смоктуновский, гениальный артист, несколько минут назад он пробивался к потаенным глубинам характера своего героя, каждой клеточкой нащупывал вехи на том чудовищно мучительном пути, которым шел к пробуждению совести Иудушка Головлев – легко ли ему сбросить с себя тяжкий груз, с которым так трудно срастался?
А он и не собирался ничего сбрасывать. Он сразу заговорил.
– Мы работаем над произведением, у которого длинная сценическая история. Очень много было инсценировок романа «Господа Головлевы», был фильм с Эрастом Гариным, помните?
Я ошалело кивнула, глядя на него во все глаза и одновременно пытаясь что-то царапать в пристроенном на коленях блокноте.
– И вот, теперь – наша сценическая версия, наш будущий спектакль – каким он будет?
У меня хватило ума, чтобы понять: вопрос риторический.
– Мы так привыкли к традиционному толкованию характера Иудушки Головлева, что он – существо скользкое, ужеподобное. Ублюдок, подонок!
Брезгливую гримасу Иннокентий Михайлович мгновенно погасил своей неподражаемой детской улыбкой.
– Но пристальнее вчитавшись в роман, я задумался: почему он интересен сейчас? Почему? Это «почему» не давало мне ни минуты покоя. И постепенно вникая, наконец, почувствовал: а ведь как много во мне самом от этого негодяя! Очевидно, время – не будем называть его жестоким, ибо в нем проходит наша жизнь, назовем его непростым временем – подводит к барьеру, где мы должны быть искренними, правдивыми, должны мудро оценивать, если можно так сказать, срезы общества, но больше всего – самих себя. Не в том ли кроется сложность нашего времени, что люди забыли об этой, как воздух, необходимой искренности по отношению к самим себе? Почему раньше я находил в себе эту ложно принятую правду: какой негодяй – он, а не я? Сегодня, думая об этом, покрываюсь потом: не он – я во многом. Позиция режиссера Льва Додина, который ставит наш спектакль, в этом и заключается: ой, не кажи перстом на кого-то, посмотри на себя, не убиваешь ли ты справа и слева от тебя идущих? А те, что справа и слева, тоже на себя посмотрят и тоже не убьют. Может, тогда и возникнет истинная коммуникативность, о которой все мы с таким вожделением мечтаем? Коммуникативность не англоязычного или говорящего на языке эсперанто туриста, когда в ход идет жест и мимика – это будет язык тех, кто живет в одно и то же время, и без этого искреннего общения жить не может.
Он сидел за рабочим столом Смелянского, я – напротив, на крохотном диванчике. Нас разделяли примерно метра два. Этери устроилась в стороне, у окна и в угол моего зрения не попадала, отчего у меня возникало ощущение, будто мы с Иннокентием Михайловичем – наедине. Не вставая со своего диванчика, я выдвинулась вперед, чтобы он лучше разглядел на моем лице нескрываемое обожание.
– Иннокентий Михайлович, вы действительно испытываете жажду в этом искреннем общении?
– О да, я уверен, что без этого не проживу. Помню, как снимался «Гамлет», и съемки проходили у вас, в Эстонии. Сколько народу приходило к нам на съемочную площадку! И поначалу была холодная настороженность, даже отчужденность. Но уже через три-четыре дня она прошла, а через неделю мы по-настоящему дружили. После съемок ходили из одного дома в другой, разговаривали, пели песни, русские и эстонские. Как много открывалось прекрасного – в том, что мы необходимы друг другу, в том, что эту необходимость нам подарила удивительная драматургия Шекспира, своей человечностью пробившая толщу непонимания. Шекспир помог нам преодолеть излишнюю деликатность, которую я ошибочно принимал за отчужденность. И сколько мне дало это взаимное открытие!
Не будь я в образе, могла бы пояснить кое-какие особенности национального характера. Но свято памятуя указания Рудакова, продвинулась вперед еще на пару сантиметров, по-прежнему не сводя с Мастера обожающий взгляд.
– Иннокентий Михайлович! Все ваши герои, сыгранные на театре и в кино, будь то принц Гамлет или царь Федор Иоаннович, князь Мышкин или чудак Деточкин, чеховские Иванов или Войницкий, Чайковский, Моцарт – все они выделяются из своего окружения необыкновенным даром – больной, обостренной совестью.
Диванчик, на котором я так удачно устроилась, был довольно низкий, а желание продемонстрировать нескрываемое обожание, попутно памятуя о блокноте, в который все же следовало заносить текст, было чрезмерно. В результате я продвинулась вперед настолько, что уперлась коленом в пол. Так, пора отползать, пока он не заметил эти маневры, приказала я себе, и заелозила на диване.
Судьбе было угодно
Смоктуновский ободряюще улыбнулся. Все-таки заметил, подумала я и сбилась с интонации.
– Как вы оцениваете эту схожесть? – спросила голосом бухгалтера, сводящего баланс.
– Это судьбе было угодно избрать меня проповедником тех чувств и идей, которые несут в себе эти образы, хотя на вид я вовсе не сильный человек.
Иннокентию Михайловичу было не до меня, думаю, не до Этери тоже. Он парил высоко над нами, над этим кабинетом, над этим дурацким зданием нового МХАТа, похожим на клуб, на заводоуправление, на что угодно, только не на театр.
– Почему?! – начисто забыв обо всех наставлениях, я посмотрела на него с искренним обожанием.
– Почему? – он спустился обратно на землю и увидел двух журналисток из Таллинна, старательно царапающих что-то в своих блокнотах. Ему понравилась наша старательность.
– О себе трудно говорить хорошие слова, но это правда – я никогда не был пустоцветом, меня воротит, когда я вижу пошлость, цинизм, когда идет подмена истинного мимолетным. Мое воспитание? У меня не было колледжа, и воспитала меня в прямом смысле улица, и при этом не испортила, наоборот, она воспитала меня честным, воспитала гражданином. Я объездил весь мир вдоль и поперек, и тех стран, в которых я побывал, гораздо больше, чем тех, где не был. И всюду у меня оставались друзья, которые мне дороги, которым, надеюсь, дорог я. Но моя жизнь, плоть, кровь, радость, мое настоящее и будущее – это мой народ и моя страна, и по-другому я ни думать, ни сказать не могу. Может быть, поэтому судьба выбрала меня на эти роли, может, поэтому мне суждено воплощать характеры, олицетворяющее борьбу добра со злом, веру в то, что завтра наступит обязательно, что не все потеряно. Ведь у нас есть сегодня, а это уже немало. У нас есть мир, которого могло и не быть, и мы открываем наши новые гастроли в Эстонии, и вы берете у меня интервью, и я с радостью говорю вам о своей замечательной судьбе...
Он хотел, чтобы слова дошли не до нашего слуха – до души. Он тронул нужные струны – слезы защекотали в горле, я хлюпнула носом. Он улыбнулся улыбкой святого и слегка взмахнул рукой – тонкая, почти бесплотная кисть, удивительно нервные пальцы, божественный жест – не верилось, что он родом с этой бренной земли.
– Вы говорите, судьба, – повторила я почти машинально. – Но вы знали когда-то, что она сложится именно так, как сложилась? У вас было такое предчувствие?
– Пожалуй, нет. Но жизнь вела таким образом, что был должен – ну просто иначе и быть не могло – готовить свои нервы, всего себя к подробному изучению человека, к анализу человеческого устройства. Фронт, плен... Был при смерти. После болезни смотрел на себя в зеркало – и не узнавал, все думал: где я видел этого человека? Это было чудовищное время в моей жизни, врагу такого не пожелаю, но... тем самым судьба меня готовила, чтобы в итоге положить сознание мое, мое измученное нутро на алтарь величайшего открытия: жизнь прекрасна! Отсюда – князь Мышкин, царь Федор Иоаннович, Войницкий, Моцарт. Вера – и полное отсутствие актерства. Ведь все они – живые люди, с такой болью... такой болью. Я ее понимаю – сам пережил, перечувствовал, передумал. И если все это было с тобой, тогда и герой предстанет перед зрителем в своей душевной наготе. Ах, как просто сейчас стало играть на сцене. Быть – трудно. Жить.
Иннокентий Михайлович замолчал, озарив пространство хорошо знакомой улыбкой, казалось, сотканной из всепонимания, всепрощения и вопрошающей растерянности. В воздухе повисла короткая пауза, в которую не умещались никакие слова.
Прокручивая в памяти этот эпизод, я и сегодня не знаю, о чем еще можно было тогда спросить. Знаю только, что сейчас вряд ли позволила бы себе вопрос, который – категорически не верится, что он прозвучал, но сохранилось свидетельство, набранное полужирным петитом: это давнишнее интервью было опубликовано в газете «Молодёжь Эстонии».
Как смотрит вольный заяц?
– Иннокентий Михайлович, вы позволите спросить о том, что не имеет прямого отношения к искусству?
Он кивнул с точностью до наоборот – откинул голову назад и обратил ко мне распахнутый взгляд, в котором сквозила некоторая заинтересованность.
– Может ли такой человек, как вы, человек, который ходит по жизни с обнаженными нервами, управлять автомобилем? Вы водите машину?
– Вожу и делаю это прекрасно! – на его лице высветилось выражение необыкновенного счастья. – Я ведь вообще-то, и не вообще, а очень конкретно, внутренне очень организованный человек.
Он на мгновение задумался, на лице замелькали тени воспоминаний.
И к этому тоже меня подготовили все тяжкие события моей жизни – ранняя смерть отца, нас, детей, в семье было шестеро, жили в нищете. Человека ведь всегда готовит в жизни его собственное естественное существование. Вы видели когда-нибудь, как заяц, вольный, живой, гибкий, смотрит на домашнего кролика? Не видели?
Я отчаянно затрясла головой: где могло подсмотреть вольного зайца домашнее существо, на вечном поводке постигающее азбучные истины бытия?
– Он смотрит на него с брезгливостью и омерзением. На самом деле и у людей так же. Складываются вот такие жесткие обстоятельства, когда нужно самому за себя ответить – и выращиваешь огромную самодисциплину. И тогда каждый прожитый день – подарок. И улыбка ребенка – счастье, и ласка женщины, и хрупкий цветок. И хочется благодарить эту трудную судьбу, и театр, который требует тебя всего без остатка, и людей, которые терроризируют вопросами...
Я покраснела, хотя, кажется, он имел в виду вовсе не меня.
– Как ужасно, если бы всего этого не было! Если бы не было этого бесконечного движения, помех, неудач. О, я знаю, что такое «быть или не быть?»!
Я ухватилась за эту спасительную фразу.
– Кстати, играя заглавную роль в чеховском «Иванове», вы не проводите параллель с Гамлетом?
– Нет, я убежден, что Чехов не хотел вывести в «Иванове» русского Гамлета. И вряд ли можно соотнести проблемы огромной России и маленькой Дании. В России все другое – от территории до человеческого характера. Помните, Чехов говорил об огромных периметрах российского пространства, за которые надо бороться, засучив рукава, а мужик – пьет... Нет-нет, в этой пьесе совсем другие проблемы.
Вспомнив, наконец, что МХАТ собирается в Таллинн, и именно этим спектаклем будет открывать гастроли, я спросила буднично, без какого бы ни было подвоха:
– Кажется, во МХАТ вы пришли именно на эту роль. Вам она нравится?
Смоктуновский секунду помолчал, потом покачал головой.
– Я объективно сужу об этой своей работе. Роль нелюбима. И Чеховым этот герой тоже не был до конца доказан. На все вопросы, кто же такой Иванов, он ответил в письме к Суворину: надоело объяснять, кто такой Иванов, пишу варианты, отдам в театр, а если не поймут, сожгу и буду писать рассказ, как писал пьесу, под названием «Довольно!». Видите, у меня есть единомышленник – Чехов. Я всегда плохо относился к этой роли, и раньше, и сейчас. Но относился честно, в чем тоже останусь неизменен. Вы правы, во МХАТ я действительно пришел на «Иванова», на роль Иванова. Но в поисках единомышленников в работе, которых всегда искал.
– И нашли?
– Мне кажется, нашел.
«Они влюблены не в самого плохого режиссера и человека»
Наш разговор продолжился уже в Таллинне, сначала в каком-то кабинете Министерства культуры, потом в гостиничном номере. Говорили долго и очень подробно – о том, что его тревожит, что волнует. О том, что принято называть смыслом жизни. В Таллинне Смоктуновского буквально рвали на части, но он не спешил прерывать беседу, был серьезен, внутренне собран, как-то особенно сосредоточен.
Но подошел Микк Микивер, главный режиссер Эстонского театра драмы и преподаватель кафедры сценических искусств. «У меня есть 20 ребят, которые в вас влюблены», – сказал очень торжественно, даже с пафосом. Иннокентий Михайлович – куда испарилась серьезность? – счастливо улыбнулся, согласно кивнул и произнес: «Ну, что ж, они влюблены, быть может, не в самого плохого актера и человека». И покосился на меня, проверяя реакцию. Я смотрела с нескрываемым обожанием.
Вечером в редакции, как водится, срочно – можно подумать, они понятия не имели о том, что приехал МХАТ – понадобилась фотография Смоктуновского. Фотографии у меня не было. Но был фотограф и опыт. «Значит, так, – сказала я Николаю Шарубину, кинооператору «Таллиннфильма», всегда выручавшему меня по части актерских портретов. – Я привожу тебя в гримерку, а ты смотришь на Мастера с нескрываемым обожанием и снимаешь». Коля взглянул на меня с нескрываемым раздражением и процедил сквозь зубы: «Я буду снимать, а на Мастера будешь смотреть ты и, пожалуйста, с нескрываемым обожанием».
Все пошло по спланированному сценарию: Коля снимает, я смотрю, Мастер парит в небесах и тает. И вдруг – я просто дара речи лишилась! – лукаво мне подмигнул: мол, все вижу, все понимаю, все, что требуется, изображу.
С тех пор знаю наверняка, что гении тоже люди, даже если они небожители.
«Ноги у меня вполне подходящие»
– Вы помните место, где стоял Эльсинор? – этим вопросом Иннокентий Михайлович встретил нас на следующее утро в своем номере в отеле «Олимпия».
– А как же! С тех пор оно так и зовется в народе – «горка Гамлета». Вы хотите туда поехать?
Иннокентий Михайлович улыбнулся. За то короткое время, что мы знакомы, я уже успела привыкнуть к тому, что на многие вопросы он отвечает улыбкой.
– Тогда едем немедленно, а то вас опять куда-нибудь утащат.
– Я быстренько соберусь, вот только брюки переодену, если вы не возражаете. Нет-нет, можете не выходить, можете даже не отворачиваться, – он был в прекрасном расположении духа.
Конечно же, я отвернулась и услышала за спиной:
– Пожалуйста, Николай, снимайте! Ноги у меня вполне подходящие. Уверен, замечательные получатся кадры: артист Смоктуновский снимает штаны.
Коля защелкал затвором фотоаппарата. Раздался телефонный звонок. Иннокентий Михайлович снял трубку. Через минуту стало ясно, что поездка отменяется – его ждали на очередном официальном приеме.
«Я здесь! Я жду! Поехали!»
– Тогда скажите им, чтобы обязательно отвезли вас на «горку Гамлета», - прощаясь, напомнила я.
– Непременно скажу, – пообещал он, думая о чем-то своем. И вдруг спросил: – Вам никогда не хотелось взять интервью у Ирины Мирошниченко?
Я слегка растерялась, потому что Мирошниченко уже отыграла в Таллинне свой спектакль, а у меня в планах были беседы с другими артистами.
– Она удивительная актриса и человек удивительный, вам будет интересно.
Мне показалось, что ему жаль свою партнершу по «Иванову», обделенную вниманием таллиннской прессы.
– Конечно, она хочет, – решительным тоном сказал Шарубин, который и по сей день охотно принимает за меня производственные решения. – Только не знает, как к ней обратиться, имени-отчества не знает.
– Ирина... Кажется, Ирина... Впрочем, скажите просто – Ирочка! –
Иннокентий Михайлович радостно засмеялся. – Только, пожалуйста, не откладывайте. Мы с ней завтра улетаем в Москву, и рейс ранний-ранний.
Улыбка погасла – он вдруг расстроился:
– А такси они, конечно же, позабудут вызвать, такое уже случалось.
– Иннокентий Михайлович, мы отвезем вас в аэропорт.
– Правда? Вы можете? Вам не трудно?
Он снова несказанно обрадовался, и в этих внезапных перепадах настроения тоже был – Смоктуновский.
Добыть машину в пять часов утра по тем временам было непросто. Но в назначенный срок мы подъехали к «Олимпии». Швейцар нехотя приоткрыл дверь: «Смоктуновский? Это кто?» – «Артист, очень известный артист!» – «В белом плаще? С женщиной? Так они только что уехали».
Мы замерли в растерянности. И вдруг с противоположной стороны улицы послышалось: «Я здесь!». Посреди проезжей части стоял Иннокентий Михайлович и махал нам руками: «Я здесь! Я жду! Поехали!».
Потом мы долго прощались в аэропорту, и радовались тому, что «горку Гамлета» он все же увидел, и жаловались на Ирину Мирошниченко, которую безрезультатно разыскивали целый день, и слушали ее кокетливые объяснения, и обещали приехать в Москву на премьеру спектакля «Господа Головлевы», и сдержали обещание...
Мы виделись с Иннокентием Михайловичем еще несколько раз.
Но стоит перед глазами незабываемая картина: в утренней тишине, в пустоте непроснувшегося города, на разделительной белой полосе – фигура в светлом плаще, трогательно воздетые к небу руки – и крик, уходящий ввысь: «Я здесь! Я жду! Поехали!».
Фото: Николай Шарубин
**
Журналист, публицист, писатель.






Плаха для стрекозы. Иннокентий Смоктуновский