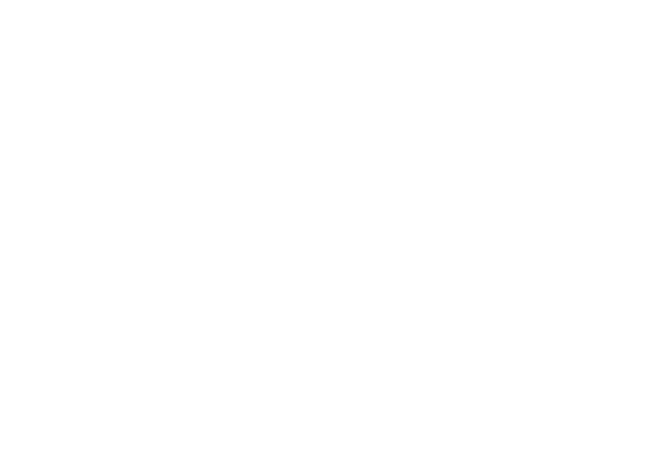Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Светлана Галаганова (Россия, Москва)
«Я и люблю её, и ненавижу», – писал из Швейцарии одному из своих друзей Пётр Ильич Чайковский. Вы думаете, это о женщине? Или, может быть, о музыке? О, нет, это – о моём городе, о Москве. Композитор относился к ней, как к живому существу. Он служил ей, всеми силами добивался её любви, страдал, если она не отвечала взаимностью, ревновал, если она предпочитала других.
Так случилось, что он приехал сюда на Крещение, 6(19) января 1866 года, не подозревая, что неповторимая московская художественная атмосфера станет для него «творческим Иорданом», живоносным источником вдохновения и радости бытия. «Если бы не двенадцать лет в Москве, я никогда бы не стал тем, кем я стал», – признается впоследствии композитор.
…Он отправился в Москву завьюженным «пушкинским» трактом, сквозь хрестоматийную русскую метель. «Грёзы зимнею дорогой» – так назвал он первую часть симфонии, партитура которой лежала теперь в его небольшом потёртом саквояже вместе с только что полученным дипломом Петербургской консерватории. Название «сбылось»: в старой длиннополой енотовой шубе с дружеского плеча поэта Апухтина так сладостно грезить о будущем! «Вы самый большой талант музыкальной России, – написал ему его консерваторский друг Генрих Ларош. – Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет, но эти – зрелые, классические – превзойдут всё, что мы имели после Глинки». «Спасибо, дорогой Генрих, у Вас добрая душа, но что-то не верится Вашим щедрым посулам», – думает «талант России», поправляя тяжёлую полость.
Басовитый голос ямщика вернул его в морозную явь:
– Москва, барин! Куда изволишь?
– В номера. Где подешевле, – смущённо «изволил» седок.
Ямщик понятливо кивнул, и сани заскользили по снежным коридорам между высокими, в человеческий рост, сугробами.
С архивной фотографии смотрит красивый молодой человек в просторной шубе (той самой, апухтинской), с чуть испуганно-удивлённым выражением лица. Пётр Ильич только что остановился «у Кокорева». Завтра он встретится с «московским Рубинштейном», а сегодня – фото для семейного альбома. Оказалось – для истории.
Что так напугало петербургского музыканта? Непроглядная темень московских улиц с тусклыми керосиновыми «коптилками» вместо газовых фонарей? Или громогласное «Побереги-и-сь!» лихачей-извозчиков, скакавших по городу, как по степи, не придерживаясь ни правой, ни какой-либо другой стороны? А может быть, отсутствие в городе водопровода и канализации? «Не бойтесь, Пётр Ильич, – хочется успокоить человека на фотографии. – Этот город станет родиной Вашей музыкальной славы. Вы полюбите его странной, ревнивой любовью, и он ответит Вам преданным поклонением и вечной памятью. Годы, которые Вам предстоит прожить здесь, вместят драму неудачной женитьбы и радость духовной близости с умной, тонкой женщиной. Вы познаете муки сомнений, боль разочарований, тяготы безденежья и спасительную поддержку верных друзей, а главное – счастье творчества. В Москве вы создадите тридцать восемь своих произведений – почти половину Вашего творческого наследия. Осенью здесь откроется консерватория. Пройдут годы – и она обретёт Ваше имя. А рядом будет поставлен памятник… Не бойтесь, Пётр Ильич!»
Чайковский был приглашён в Москву Н.Г. Рубинштейном преподавать теоретические предметы в музыкальных классах Московского отделения Русского музыкального общества. Николай Григорьевич сам приехал в гостиницу Кокорева, чтобы перевезти будущего коллегу в свою просторную квартиру на Моховой. Это потом наступит усталость от служебной лямки и тоска по творческой свободе, а тогда Пётр Ильич радостно включился в разработку консерваторского устава, учебных планов, программ. Он перевёл с немецкого ряд музыкально-педагогических трудов, составил «Руководство к практическому изучению гармонии». Так начались эти московские годы, сыгравшие решающую роль в творческом становлении одного из гениев русской музыки.
«Здесь развернулись мои артистические силы», – говорил Чайковский. Но ведь творческие силы не разворачиваются сами собой. Их, словно благовещенских птиц, выпускают на волю люди – те, что окружают носителя «искры Божьей», что способны своим дыханием – бережно-заботливым или бездумно-неосторожным – раздуть её в «пламень огненный» или загасить, навсегда, навеки. Мы никогда уже не узнаем, скольких талантов недосчиталась мировая культура из-за чьей-то зависти, равнодушия, интриг, безответственного «авторитетного» слова. У Чайковского, с его болезненной впечатлительностью, обидчивостью, ранимостью, шансов избежать подобной участи было немного. "Enfant de verre"! (Стеклянный ребёнок!) – вздыхала, глядя на маленького «Пьера», гувернантка-француженка.
Он так и остался большим ребёнком, простодушным, наивным и доверчивым. Московская художественная элита чутко угадала эту душевную хрупкость молодого музыканта и бросилась… нет, не давить новоявленного соперника. Бросилась опекать «милого Петра Ильича», нянчиться с ним, как любящая маменька. Н.Г. Рубинштейн и его сподвижники – преподаватели консерватории Н.С. Зверев, К.К. Альбрехт, Н.А. Губерт («Альбертыч») и его жена, урождённая Баталина («Баташа»), совсем ещё неизвестный в ту пору музыкальный критик Н.Д. Кашкин, драматург Н.А. Островский и его друг, артист Малого театра П.М. Садовский, нотоиздатель П.И. Юргенсон и князь В.Ф. Одоевский – это они создавали ту особую среду, которая вскормила несколько поколений московской интеллигенции, это они формировали своим примером идеал музыканта-просветителя, артиста-служителя, художника-подвижника, это они «воспитывали» для России её великого композитора, это они «сделали Чайковского Чайковским».
Но дело не только в непосредственном окружении композитора, но и в более широком, социально-культурном окружении. 60-е–70-е годы XIX века вошли в историю Москвы как период невиданного общегородского патриотизма, всеобщей гордости родным городом, который воспринимался как принадлежащий лично каждому и всем вместе. Москвичи гордились одним из лучших в мире судов, университетом, выпускавшим Ключевских и Захарьиных, Рубинштейном и «его» консерваторией, куда посылали своих детей европейские музыканты, театром, куда ходили, по слову Белинского, «молиться и плакать», цирком Соломонского на Цветном бульваре, где рядом с разносчиками и кухарками заливались смехом грозный генерал-губернатор и его друг, обер-пастор лютеранской общины, Толстым (наш ведь, хамовнический!) и Островским, первомайскими гуляньями в Сокольниках и Татьяниным днём (когда объявление в ресторане «Стрельня» умоляло «господ студентов» не пытаться залезть на пальму в кадке).
Город-дитя, демократичный, непосредственный и очень серьёзный, Москва трудилась, гуляла и молилась на пределе физических и душевных сил. Она была степенной и благочестивой, жизнелюбивой и простодушной; она не замечала неудобств патриархального быта, она обожала музыку, театр, литературу. Не понравиться ей было опасно: с известным адвокатом, пытавшимся выиграть «неправедное» дело, перестали здороваться. Но и любить она умела, легко прощая людям их слабости. Чайковского Москва полюбила «с первого взгляда» – после исполнения в марте 1866 года фа-мажорной увертюры. Москвичи увидели в нём «своего» композитора, а детская душа музыканта радостно соединилась с широкой душой «града сердечного».
* * *
… Вот уже скоро опять Крещение, с гаданьями и купаньями. И опять метель. Я смотрю на свой заснеженный город и вспоминаю фотографию испуганного Петра Ильича в енотовой шубе. Он ведь не любил зимы. Его любимым месяцем был май, символом прекрасного – ландыши. Но его путь в историю музыки начался из ледяной январской купели, ибо, наверное, нет роднее для русской души этого поющего метельного раздолья, мешающего хохот с плачем, землю с небом, Слово с Музыкой. И уже неважно, кто это сочинил, – какой-то Белкин, Пушкин, Чайковский или Свиридов. Здесь дышит русский дух – тоскуя, ликуя, взмывая вихрем к небесной тверди.
Вот так как-то всё оно связалось – Москва, Крещение, метель, Чайковский… У городов ведь бывают свои особые литературно-музыкальные праздники. Москвичам сегодня трудно представить день 6 июня без возложения цветов к памятнику Пушкина и повсеместного чтения пушкинских стихов. А мне хочется, чтобы праздник Святого Богоявления стал для моего города ещё и «Днём Чайковского». Чтобы в каждом концертном зале, в каждой ДМШ звучала в этот день знакомая нам с детства музыка, чтобы утреннее «Во Иордане крещающуся…» сменялось вечером «Зимними грёзами», и шёпот скрипок, похожий на лёгкий посвист санных полозьев, напоминал нам о тогда ещё никому неизвестном музыканте, шагнувшим в такой же крещенский день на московскую мостовую. Оказалось – в бессмертие…
**
Так случилось, что он приехал сюда на Крещение, 6(19) января 1866 года, не подозревая, что неповторимая московская художественная атмосфера станет для него «творческим Иорданом», живоносным источником вдохновения и радости бытия. «Если бы не двенадцать лет в Москве, я никогда бы не стал тем, кем я стал», – признается впоследствии композитор.
…Он отправился в Москву завьюженным «пушкинским» трактом, сквозь хрестоматийную русскую метель. «Грёзы зимнею дорогой» – так назвал он первую часть симфонии, партитура которой лежала теперь в его небольшом потёртом саквояже вместе с только что полученным дипломом Петербургской консерватории. Название «сбылось»: в старой длиннополой енотовой шубе с дружеского плеча поэта Апухтина так сладостно грезить о будущем! «Вы самый большой талант музыкальной России, – написал ему его консерваторский друг Генрих Ларош. – Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет, но эти – зрелые, классические – превзойдут всё, что мы имели после Глинки». «Спасибо, дорогой Генрих, у Вас добрая душа, но что-то не верится Вашим щедрым посулам», – думает «талант России», поправляя тяжёлую полость.
Басовитый голос ямщика вернул его в морозную явь:
– Москва, барин! Куда изволишь?
– В номера. Где подешевле, – смущённо «изволил» седок.
Ямщик понятливо кивнул, и сани заскользили по снежным коридорам между высокими, в человеческий рост, сугробами.
С архивной фотографии смотрит красивый молодой человек в просторной шубе (той самой, апухтинской), с чуть испуганно-удивлённым выражением лица. Пётр Ильич только что остановился «у Кокорева». Завтра он встретится с «московским Рубинштейном», а сегодня – фото для семейного альбома. Оказалось – для истории.
Что так напугало петербургского музыканта? Непроглядная темень московских улиц с тусклыми керосиновыми «коптилками» вместо газовых фонарей? Или громогласное «Побереги-и-сь!» лихачей-извозчиков, скакавших по городу, как по степи, не придерживаясь ни правой, ни какой-либо другой стороны? А может быть, отсутствие в городе водопровода и канализации? «Не бойтесь, Пётр Ильич, – хочется успокоить человека на фотографии. – Этот город станет родиной Вашей музыкальной славы. Вы полюбите его странной, ревнивой любовью, и он ответит Вам преданным поклонением и вечной памятью. Годы, которые Вам предстоит прожить здесь, вместят драму неудачной женитьбы и радость духовной близости с умной, тонкой женщиной. Вы познаете муки сомнений, боль разочарований, тяготы безденежья и спасительную поддержку верных друзей, а главное – счастье творчества. В Москве вы создадите тридцать восемь своих произведений – почти половину Вашего творческого наследия. Осенью здесь откроется консерватория. Пройдут годы – и она обретёт Ваше имя. А рядом будет поставлен памятник… Не бойтесь, Пётр Ильич!»
Чайковский был приглашён в Москву Н.Г. Рубинштейном преподавать теоретические предметы в музыкальных классах Московского отделения Русского музыкального общества. Николай Григорьевич сам приехал в гостиницу Кокорева, чтобы перевезти будущего коллегу в свою просторную квартиру на Моховой. Это потом наступит усталость от служебной лямки и тоска по творческой свободе, а тогда Пётр Ильич радостно включился в разработку консерваторского устава, учебных планов, программ. Он перевёл с немецкого ряд музыкально-педагогических трудов, составил «Руководство к практическому изучению гармонии». Так начались эти московские годы, сыгравшие решающую роль в творческом становлении одного из гениев русской музыки.
«Здесь развернулись мои артистические силы», – говорил Чайковский. Но ведь творческие силы не разворачиваются сами собой. Их, словно благовещенских птиц, выпускают на волю люди – те, что окружают носителя «искры Божьей», что способны своим дыханием – бережно-заботливым или бездумно-неосторожным – раздуть её в «пламень огненный» или загасить, навсегда, навеки. Мы никогда уже не узнаем, скольких талантов недосчиталась мировая культура из-за чьей-то зависти, равнодушия, интриг, безответственного «авторитетного» слова. У Чайковского, с его болезненной впечатлительностью, обидчивостью, ранимостью, шансов избежать подобной участи было немного. "Enfant de verre"! (Стеклянный ребёнок!) – вздыхала, глядя на маленького «Пьера», гувернантка-француженка.
Он так и остался большим ребёнком, простодушным, наивным и доверчивым. Московская художественная элита чутко угадала эту душевную хрупкость молодого музыканта и бросилась… нет, не давить новоявленного соперника. Бросилась опекать «милого Петра Ильича», нянчиться с ним, как любящая маменька. Н.Г. Рубинштейн и его сподвижники – преподаватели консерватории Н.С. Зверев, К.К. Альбрехт, Н.А. Губерт («Альбертыч») и его жена, урождённая Баталина («Баташа»), совсем ещё неизвестный в ту пору музыкальный критик Н.Д. Кашкин, драматург Н.А. Островский и его друг, артист Малого театра П.М. Садовский, нотоиздатель П.И. Юргенсон и князь В.Ф. Одоевский – это они создавали ту особую среду, которая вскормила несколько поколений московской интеллигенции, это они формировали своим примером идеал музыканта-просветителя, артиста-служителя, художника-подвижника, это они «воспитывали» для России её великого композитора, это они «сделали Чайковского Чайковским».
Но дело не только в непосредственном окружении композитора, но и в более широком, социально-культурном окружении. 60-е–70-е годы XIX века вошли в историю Москвы как период невиданного общегородского патриотизма, всеобщей гордости родным городом, который воспринимался как принадлежащий лично каждому и всем вместе. Москвичи гордились одним из лучших в мире судов, университетом, выпускавшим Ключевских и Захарьиных, Рубинштейном и «его» консерваторией, куда посылали своих детей европейские музыканты, театром, куда ходили, по слову Белинского, «молиться и плакать», цирком Соломонского на Цветном бульваре, где рядом с разносчиками и кухарками заливались смехом грозный генерал-губернатор и его друг, обер-пастор лютеранской общины, Толстым (наш ведь, хамовнический!) и Островским, первомайскими гуляньями в Сокольниках и Татьяниным днём (когда объявление в ресторане «Стрельня» умоляло «господ студентов» не пытаться залезть на пальму в кадке).
Город-дитя, демократичный, непосредственный и очень серьёзный, Москва трудилась, гуляла и молилась на пределе физических и душевных сил. Она была степенной и благочестивой, жизнелюбивой и простодушной; она не замечала неудобств патриархального быта, она обожала музыку, театр, литературу. Не понравиться ей было опасно: с известным адвокатом, пытавшимся выиграть «неправедное» дело, перестали здороваться. Но и любить она умела, легко прощая людям их слабости. Чайковского Москва полюбила «с первого взгляда» – после исполнения в марте 1866 года фа-мажорной увертюры. Москвичи увидели в нём «своего» композитора, а детская душа музыканта радостно соединилась с широкой душой «града сердечного».
* * *
… Вот уже скоро опять Крещение, с гаданьями и купаньями. И опять метель. Я смотрю на свой заснеженный город и вспоминаю фотографию испуганного Петра Ильича в енотовой шубе. Он ведь не любил зимы. Его любимым месяцем был май, символом прекрасного – ландыши. Но его путь в историю музыки начался из ледяной январской купели, ибо, наверное, нет роднее для русской души этого поющего метельного раздолья, мешающего хохот с плачем, землю с небом, Слово с Музыкой. И уже неважно, кто это сочинил, – какой-то Белкин, Пушкин, Чайковский или Свиридов. Здесь дышит русский дух – тоскуя, ликуя, взмывая вихрем к небесной тверди.
Вот так как-то всё оно связалось – Москва, Крещение, метель, Чайковский… У городов ведь бывают свои особые литературно-музыкальные праздники. Москвичам сегодня трудно представить день 6 июня без возложения цветов к памятнику Пушкина и повсеместного чтения пушкинских стихов. А мне хочется, чтобы праздник Святого Богоявления стал для моего города ещё и «Днём Чайковского». Чтобы в каждом концертном зале, в каждой ДМШ звучала в этот день знакомая нам с детства музыка, чтобы утреннее «Во Иордане крещающуся…» сменялось вечером «Зимними грёзами», и шёпот скрипок, похожий на лёгкий посвист санных полозьев, напоминал нам о тогда ещё никому неизвестном музыканте, шагнувшим в такой же крещенский день на московскую мостовую. Оказалось – в бессмертие…
**







Очень давняя крещенская история



Родилась и живу в Москве.
Преподаватель социально-гуманитарныхнаук в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В свободное время – журналист.
Преподаватель социально-гуманитарныхнаук в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В свободное время – журналист.