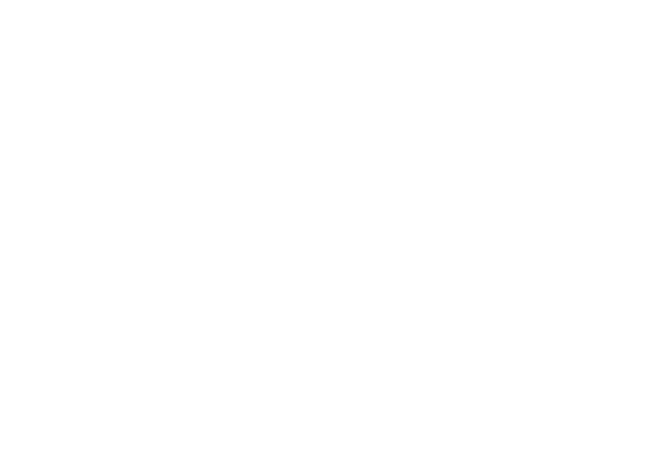Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Татьяна Громова (Россия, Санкт-Петербург)
Дневники
Сегодня как-то совершенно неожиданно для себя открыла в коридоре дверцы книжного шкафа… Да, в коридоре. У нас в «писательской» квартире книжные шкафы и полки стоят и висят везде, куда ни кинешь взор…
Так вот, стало быть, открываю дверцу книжного шкафа, и смотрят на меня со средней полочки выстроившиеся в ряд дневники.
Мои дневники. Я их периодически то начинаю вести, то забрасываю.
Дневники вели некоторые очень значимые для меня люди – родственники, друзья, знакомые только по книгам писатели, литературные персонажи...
Дедушка мой, мамин отец, дневники вёл. Только вот увидеть мне не довелось ни деда, ни его дневников. Он умер за полгода до моего рождения, а дневники во время ремонта мама с папой выбросили как ненужный хлам.
«Здесь любые записи по числам, вязь пера, штрихи карандаша, – всё, что с детской щедростью и смыслом собирает Танина душа», – это строки из поэмы Сергея Смирнова «Сердце и дневник»…
Итак, открываю я дверцу коридорного книжного шкафа, вижу ряд записных книжек и беру из середины первую попавшуюся…
Декабрь 2001-февраль 2002.
Погружаюсь в чтение и не могу оторваться…
…Встречи с младшей сестрой музы блокадного Ленинграда Ольги Берггольц Марией Фёдоровной. Ей на тот момент было 89 лет! И несмотря на разницу в возрасте, мы с ней дружили! И Мария Фёдоровна Берггольц много рассказывала о своей сестре Ольге, которую очень любила.
После смерти Ольги Берггольц в ноябре 1975 года Мария Фёдоровна посвятила свою жизнь восстановлению доброго имени сестры, изданию её творческого наследия, – то есть, всему тому, чтобы «гослос блокадного Ленинграда» не умолк и не затерялся в нестройном хоре советской литературы.
Она составила и подготовила к изданию около двух десятков Ольгиных книг. Была хранительницей её дневников, часть из них вошла в 2000 году в книгу «Встреча», которую Мария Федоровна мне подписала…
…Нас познакомил мой старший друг, Андрей Андреевич Морозов. Это было в конце девяностых. Андрей Андреевич опекал Муську (так он её за глаза называл): выносил мусор, мыл туалет и ванную, покупал продукты, приносил что-то из одежды…
Я тоже подключилась и стала помогать – бегала в магазин, читала то, что она меня просила (у Марии Фёдоровны была сильнейшая близорукость), сопровождала в деловых поездках. Ей было под девяносто! Железная воля, очень непростой характер… Но мы с ней ладили…
Мария Фёдоровна дала мне рекомендацию в Союз литераторов… Правда, тогда до приёма в эту организацию так дело и не дошло.
Очень запомнился один случай. Мы были в Доме книги – Мария Фёдоровна хотела убедиться, что Ольгины новые сборники поступили в продажу. Ей нужно было без лифта подняться на четвёртый этаж, и с моей помощью она благополучно совершила этот подвиг.
А вот при спуске, на последнем лестничном марше вдруг упала.
Я очень испугалась, побежала к продавцам, попросила вызвать «скорую»…
Медики приехали довольно быстро. И выяснилось, что это… голодный обморок! И она никому не сказала, что ей нечего есть…
Моё любимое стихотворение у Ольги Берггольц вот это:
Сегодня вновь растрачено души
на сотни лет,
на тьмы и тьмы ничтожеств...
Хотя бы часть её в ночной тиши,
как пепел в горсть, собрать в стихи...
И что же?
Уже не вспомнить и не повторить
высоких дум, стремительных и чистых,
которыми посмела одарить
лжецов неверующих и речистых.
И щедрой доброте не просиять,
не озарить души потайным светом;
я умудрилась всю её отдать
жестоким, не нуждающимся в этом.
Всё роздано: влачащимся – полёт,
трусливым и безгласным – дерзновенье,
и тем, кто всех глумливей осмеёт,-
глубинный жемчуг сердца – у м и л е н ь е.
Как нищенка, перед столом стою.
Как мать, дитя родившая до срока.
А завтра вновь иду и отдаю
всё, что осталось, не приняв урока.
А может быть – мечты заветней нет, –
вдруг чье-то сердце просто и открыто
такую искру высечет в ответ,
что будут все утраты позабыты?
И в этом мироощущении, мне кажется, мы с Ольгой похожи: в неуёмном желании встретить простые и открытые сердца, высекающие ответные искры…
От себя ещё добавлю: ищу себя в других я неустанно…
Я собираюсь рассказать немножко подробнее о Ляльке и Муське – Ольге Фёдоровне и Марии Фёдоровне Берггольц…
Обе сестрёнки родились в Санкт-Петербурге в начале ХХ века: Оля – 16 мая 1910, а Маша – 10 сентября 1912 года. В семье их называли Ляля и Муся.
Отец – Фёдор Христофорович Берггольц (1885-1948), выпускник дерптского университета, заводской врач-хирург со шведско-немецкими корнями, потомок военного, взятого в плен при Петре I.
Мать – Мария Тимофеевна, урождённая Грустилина (1884-1957), женщина интеллигентная и образованная, из «бывших». Обожала поэзию и музыку, прививала эту любовь детям.
Были ещё бабушка и дедушка – Ольга Михайловна и Христофор Фридрихович Берггольц. Дед – образованнейший человек, он хорошо говорил по-немецки, по-русски, по-латышски.
А бабушка… Ох, уж эта бабушка! Не терпящая возражений, властная… Таких называют «салтычихами».
Семья обитала в старинном доме у Невской заставы.
Помогали по хозяйству няня (она же домработница) Авдотья и гувернантка…
Мария Фёдоровна говорила, что в Ольгиной жизни с самого рождения всё было – как по ухабам: то вверх, то вниз. На основании этих рассказов у меня появилась литературная версия появления на свет Ольги Берггольц…
Повествование ведётся от её имени…
«Вижу из вечности, со стороны…»…
Из далёкого далёка видится и осознаётся всё совсем по-иному, нежели лицом к лицу…
Вот и я смотрю теперь издалека, смотрю, как принимали меня и отвергали – многократно… Постоянно… С начала начал…
…Мои родители так любили друг друга, что дожидаться венчания было неимоверно трудно, и потому, когда мне пришла пора появиться на свет, бабушка, Ольга Михайловна, не сомневалась, что отец прикрывает чужой грех, а она была ого-го какая властная. Даже деспотичная, до самодурства, можно сказать. Не зря про неё говорили, что она из князей Мышег-Мышецких – рюриковичей, ведущих свой род от внука святого великомученика князя черниговского Михаила Всеволодовича, замученного татарами в Орде. В связи с тем, что Мышецкие оставались староверами, земли их были по большей части реквизированы в казну, а сами они по указу Елизаветы Петровны объявлены «крестьянами, вне происхождения и родовитости».
…Цокот копыт по булыжной мостовой, скрип рессор, сдавленные мамины стоны и взволнованный голос отца:
– Терпи, Маня, терпи! – он – медик, хирург, очень боится принимать роды, да ещё и в бричке.
И я принимаю решение.
Для того, чтобы… Для того, чтобы перекрыть… душевные муки… мамы, надо добавить… мук физических.
И я встаю поперёк.
Теперь мама точно дотерпит.
…Родильное отделение. Папа принимает роды у мамы. Но плод имеет поперечное предлежание. Я чувствую, что не хватает кислорода… Мне не выйти и уже не развернуться самостоятельно…
И я умоляю высшие силы помочь мне появиться на свет, – чтобы я могла исполнить миссию, с которой иду в этот мир.
Папа руками разворачивает меня в родовых путях и извлекает на свет. Спасибо, папа. Но я не могу дышать… Я синяя… и сердцебиение отсутствует… Чувствую, как меня погружают то в горячую, то в холодную воду. Горячая – холодная… Горячая – холодная… Горячая – холодная.
Я принята земным миром. Я изгнана из материнской утробы.
У мамы – заражение крови. Родильная горячка. Она на грани жизни и смерти.
Бабушка категорически против моего появления в её доме. Меня определяют в приют. Кричу целыми днями – от безысходности, от отсутствия материнского тепла, от людского равнодушия. Зачем я пришла в этот мир? Но когда сон обнимает меня, обессиленную, кто-то словно нашёптывает, напевает, что всё будет хорошо…
Бабушка так страстно любит папу, так хочет, чтобы он жил только для неё. А тут – какая-то невестка, которая, безусловно, не чета гениальному сыночку, и в подмётки ему не годится! Вот и хочет найти Ольга Михайловна, к чему бы придраться. А тут – нате ж вам! – разродилась раньше срока, мерзавка! Не иначе Феденьку вокруг пальца обвела, а приплод понесла от нищеброда какого-нибудь! Да чтоб духу её в моём доме не было!
…А Феденька-то от расстройства тоже слёг в нервной горячке…
Два месяца прошло в боли и всеобщем непринятии.
И сдалась бабушка – поняла, что иначе сына потеряет. Самолично явилась в приют, забрала меня. А уж как увидела, что я как две капли воды на её Феденьку возлюбленного похожа, и вовсе растаяла. И назвала – в свою честь – Ольгой.
Тут и мама из больницы вернулась, и папа на радостях выздоровел.
Приняли меня! Приняли!
До следующего изгнания… Но это уже другая история.
Хочу предложить к прочтению несколько отрывков из великолепной книги Ольги Берггольц «Дневные звёзды». Она называла её Главной книгой своей жизни.
«…мне снится город детства — Углич,
куда мать увезла сестру и меня из Петрограда в 1918 году и где прожили мы почти два с половиной года, пока отец далеко на юге воевал с белыми. Мы жили то на одной, то на другой улице в разных домах, но дольше всего по ордеру горкоммуны в келье Богоявленского девичьего монастыря; это было наше последнее жильё в Угличе.
Наш корпус был самым дальним, угловым, он стоял в конце монастырской стены, близ дремучего садика, над глубоким, притаившимся под огромными липами прудом, а в школу мы иногда ходили не по улице, а по тёмному коридору в толстой каменной монастырской стене. Ходить по этому коридору было страшно, зато в оттепель не промокали валенки. А школа помещалась в том же монастыре, на другом конце, в красном кирпичном здании, которое раньше называлось «покоями» и стояло прямо напротив высокого белого собора с пятью синими главами, и главы были усыпаны крупными золотыми звёздами.
Мы прожили в келье лето, осень и зиму, – главное, зиму двадцатого года… Ух, какие это были медленные, ледяные вечера, с вонючей слепой коптилкой, с грозным рёвом близких монастырских колоколов, с горючей тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы не умерли там с голоду; но мы помнили, что два года назад в Петрограде мы ели лучше, чем теперь, что там бывала даже колбаса, а в нашей столовой горела висячая лампа с абажуром.
Мы вспоминали эту лампу, как живого, любимого человека, и нам всё казалось, что она и сейчас горит в Петрограде, хотя мама говорила, что дедушка, бабушка и няня Авдотья тоже давно сидят с коптилкой, а едят ещё хуже, чем мы: у нас хоть дуранда есть, вобла бывает и много овсяных высевок, из которых можно варить кисель, а там… и она замолкала. Но невозможно было поверить, что во всех, во всех городах, и в особенности в милом Петрограде, так же голодно, холодно и темно, как у нас в келье. Нет, лампа в петроградском доме, наверное, всё-таки горела…
А мама по вечерам уходила в нашу школу на работу, в ликбез, где старухи учились читать, как маленькие, и мы оставались одни, запертые в сводчатой морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев; монашенки, дежурившие в нашей школе, говорили, что старцы иногда зачем-то «встают из могил», и если б не Тузик – рыжая голодная собака, приставшая к нам в эту зиму, – то было бы совсем страшно.
Как хорошо, что мы уговорили маму взять собаку в келью и потихоньку делились с нею скудной своей едой: она отвечала нам глубокой любовью, она ревниво оберегала нас. Закутавшись в одеяла, придвинув смердящую коптилку к самым книгам, страшась, что коптилка может потухнуть, и потому почти не дыша (мать оставляла нам на всякий случай одну спичку из своего запаса) мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, воинственно навострив рыжие треугольные уши, готовый в любую минуту броситься на старцев, если они вдруг встанут из могил и будут сюда ломиться.
Один раз всё-таки, тяжело вздохнув, Муська загасила коптилку. Единственная спичка сломалась у меня в руке, и головку её мы, конечно, не нашли. Мы оцепенели от ужаса, от внезапной тьмы.
– Теперь мы умрем, – басом сказала Муська.
– Ничего, – прошептала я, – скоро вернётся мама. Это звонят ко всенощной, значит, урок в ликбезе уже кончился. Ведь старухам ко всенощной надо…
Но мне было ещё страшнее, чем сестрёнке.
Тузик подошёл к нам и, положив лапы мне на колени, деловито облизал наши лица. Язык у него был шершавый, горячий, от него пахнуло теплом. Он держался как самый старший в доме.
– Скоро весна, – сказала я. – Мы опять пойдем в лес… на субботник… собирать ландыши для аптеки и шишки для электростанции. Тебе хочется в лес, Муська?
– Я хочу в Петроград, – ответила она тем же грустным басом.
– Это все из-за Колчака, – пояснила я, – нам в классе говорили! И голод, и всё, всё…
И сладкая судорога ненависти сдавила мне горло.
Мы замолчали. А в келье было уже не так темно, как в первую минуту, когда погасла коптилка и сломалась спичка: смутно стали видны контуры лежанки, подушки на кровати и кадка с водой: то полукруглые окошки, чудесно посветлев, лили в келью снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы.
Так мы вместе с Тузиком коротали зиму, встречали милую волжскую весну, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к родным, к хлебу, к светлой висячей лампе».
1920 год. Отец вернулся после семилетнего отсутствия. Он военный врач-хирург, Первая мировая война, потом революция, Гражданская война… Фёдор Христофорович служит врачом на санитарном поезде. Рядом с ним неотлучно находится хирургическая медсестра Варвара, бывшая княгиня. Четырежды она спасает доктора от близкой смерти – тиф свирепствует… Варвара и Фёдор любят друг друга… Но Фёдор женат… И в 1920 году он возвращается к семье, чтобы привезти жену и дочерей из Углича в Петроград… Это реальная история жизни семьи Берггольц и отдельных её членов.
«Папа приехал
Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати.
Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая её по плечу, говорил негромко:
– Ну, ничего, ничего…
Невероятная догадка одарила меня.
– Муська, – закричала я, – вставай! Война кончилась! Папа приехал!
Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, тёмное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет – с тех пор как он ушёл на войну ещё с германским царём Вильгельмом – знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он – живой.
– Вы – наш папа? – вежливо спросила Муська.
– Ну да, – ответил он и в шинели сел на край кровати; от него пахло незнакомо: сукном, махоркой, дымом, – пахло войной и папой.
Он тоже, наверное, не узнавал нас и не знал, что с нами делать, он осторожно левой рукой потрогал сперва мою макушку, потом Муськину, а в правой руке всё держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, всё время так держал мешок, чтоб его не украли мародеры или спекулянты.
Мать наконец взяла мешок у него из рук и сказала:
– Ну, поцелуй же ребят…
Но папа не поцеловал нас.
– Вынь им сахару, – сказал он, пристально глядя на Муську.
Мы впервые за последние три года ели сахар, свирепо хрустя и захлебываясь, и всё смотрели на нашего папу и привыкали к нему.
– Папа, – спросила я, – голодное время тоже кончилось? Да, папа?
Мне хотелось говорить слово «папа» все время.
– Кончилось, – ответил он.
– И мы поедем в Петроград, папа?
– Ну конечно. Я же за вами приехал.
– Скоро, папа?
– Через три дня.
Мы завизжали и захлопали в ладоши, – они были липкими от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся – он уже немножко привык к нам – и вдруг стал похож на свой студенческий портрет.
– А пароходы по Волге не ходят! – воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью. – Как же мы?
– А мы прямо на лодке поедем. На большущей такой, знаете? До станции Волга. А оттуда – тук-тук – поездом прямо до Питера.
Он засмеялся, и мы засмеялись и задохнулись от восторга, с обожанием глядя на папу. <…>»
* * *
…Первый муж Ольги Берггольц – поэт Борис Корнилов (помнишь песню: «От Махачкалы до Баку волны катятся на боку, и, качаясь, бегут валы от Баку до Махачкалы»? – он автор текста). В 1927 году у них родилась дочь Иришка.
В 1930 после окончания филологического факультета ЛГУ Ольга уезжает по распределению в Казахстан. В это же время разошлись с Борисом – не сложилось. Ольга вышла замуж за Николая Молчанова, с которым училась вместе в университете. Он даёт ей настоящее счастье. Именно он. «Любовь моя. Всегдашняя». Рождается вторая дочь – Майя.
Вернувшись из Алма-Аты в Ленинград, Ольга Берггольц поселилась вместе с Николаем Молчановым на улице Рубинштейна, 7 – в доме, называвшемся «слезой социализма».
Вот как описывает этот дом в книге «Дневные звезды» сама Ольга:
«Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было “дом-коммуна инженеров и писателей”. А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище – “слеза социализма”.
Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали «слезницами». Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со “старым бытом” (кухня и пелёнки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни.
Не было даже передних с вешалками – вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха: ещё на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма.
Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и “отжившую” кухонную индивидуальную посуду – хватит, от стряпни раскрепостились, – создали сразу огромное количество комиссий и “троек”…
…и даже архинепривлекательный внешний вид дома “под Корбюзье” с массой высоких, крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой “строгостью”, соответствующей новому быту…
И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления… <…>
С пелёнками, которых в доме становилось почему-то всё больше, был просто ужас: сушить их было негде! Мы имели дивный солярий, но чердак был для сушки пелёнок совершенно непригоден.
Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что, если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было всё слышно, вплоть до плохих рифм!»
…В тридцатые годы
для Ольги настаёт период серьёзных испытаний на прочность. Одна за другой, с небольшим временным промежутком, умирают обе дочери. Сначала в 1933 – Майя от диспепсии, не дожив и до года, потом в 1936 – Иришка – осложнение на сердце от недолеченной ангины…
Страшно даже подумать, каково матери терять детей…
В 1937 году (по доносу) Ольгино персональное дело, якобы, за аморальное поведение, разбирают на парткоме. Ох как любили партийные органы сунуть нос в чужую личную жизнь! Своей, что ли, не было? А как любили стукачи доносить! Видимо, удовольствие от этого получали, сродни сексуальному.
Ольгу исключают из Союза писателей и из кандидатов в члены ВКП(б).
Вот что пишет Марии Фёдоровне Берггольц по этому поводу муж Ольги Николай Молчанов:
«Ольга, конечно, будет хлопотать – уже потому, что не хлопотать – значит демонстрировать против народного дела, это вопрос, так сказать, политической грамотности.
С другой стороны, практически ничего ужасного не вижу в том, если Ольгу не восстановят. Неприятно, конечно, но можно будет с большей эффективностью выполнить своё извечное предназначение. А это тоже дело народное, советское, социалистическое.
…Безобразно одно: что Ольга платит не за себя, что у неё все это контрреволюционное блудодейство – от искренности, от излишней доверчивости, от идеализации известных общественных категорий.
Не менее безобразно и то, что за ней очень прочно укрепили репутацию б**ди, – причем это сделали люди из зависти, что им не пришлось испытать Ольгиной благосклонности.
Это пережиток капитализма, извечная история. Хотят опорочить женщину – говорят, что она б**дь. Против мужчин почему-то такого оружия нет».
А вот выдержка из Ольгиного дневника от 7 июня 1937 года:
«Я живу как перед отъездом, когда не осталось больше времени. Если отъезд совершится — в новую жизнь, в новую совсем, то буду я в партии или нет, буду писать или нет, сегодняшние дни всё-таки будут оправданы — для меня, т. е. для одной человеческой жизни. <...>
Эти дни будут оправданы тем, что я стану иной для себя, и постараюсь совершить своё дело для других — написать книгу о жизни, о том, что жить необходимо и всё-таки хорошо. <...>
Мне 27 лет. Я жила, думала, у меня были дети. Я любила, сближалась с другими людьми, работала, я казалась себе и нужной, и хорошей. Какой ужасный итог на сегодня, и что остаётся от всех этих дел, встреч, жизни.
Нет детей. Они умерли. Это непоправимо до смерти моей. Я сама во многом виновата, что не сумела сберечь их…»
Я всеми признан, изгнан отовсюду?
В 1938 году Ольга решается на ещё одного ребёнка. Шестой месяц беременности… Декабрь. Чёрный ворон. Обыск. Изъятие дневников. Допросы. Издевательства. Жестокие побои.
Изнанка светлого и гуманного советского общества строителей коммунизма.
И кто попал в эту адскую машину? Ольга, плоть от плоти советского государства, с восторгом строившая социализм и свято верившая в его идеалы…
А случилось так, что друга семьи Леонида Дьяконова арестовали, и он на допросе под пытками совершил ложное признание, приписав Ольге участие в заговоре против Жданова… И поэтесса попала в ту же мясорубку…
Её, беременную, изощрённо били ногами по животу… Случился выкидыш…
И с тех пор Ольга уже не могла вынашивать детей…
…Около полугода держали Ольгу в тюрьме. А вытащила её оттуда Мария Фёдоровна – та самая Муська, про которую говорили, что она упрямая и склочная. Но если бы не её любовь к сестре, не настойчивость и упорство…
Это она всеми правдами и неправдами подняла на ноги Союз писателей и добилась, чтобы в защиту Ольги выступил тогдашний секретарь парткома Александр Фадеев.
Это она добилась аудиенции у Ольгиного следователя Гоглидзе. Уж не знаю, какими методами она на него воздействовала – в подробности Мария Фёдоровна не вдавалась (а она была красавицей), но после этой аудиенции Ольгу не только выпустили, но и вернули конфискованные дневники…
Вот выдержки из Ольгиных дневников того времени.
Июль 1939: …«Я провела в тюрьме 171 день <…> Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть – но я живу… подкрасила брови, мажу губы…»
Сентябрь 1939: «Всё ещё каждую ночь снится тюрьма, арест, допросы»…
Октябрь 1939: «Да, я ещё не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следоватлем, с комиссией, с людьми о постыдном, состряпанном моём деле. Всё отзывается тюрьмой <…> Она стоит между мной и жизнью».
Декабрь 1939: «Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения<…> …запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обречённости, безысходности, с которыми шла на допросы…
<…>год назад я металась по матрасу возле уборной, – раздавленная, заплёванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (и это – главное!)
И я – уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей… (Это хорошо всё, но не главное).
Значит, я победитель? О, нет!
Нет, хотя я не хочу признать себя и побеждённой. <…> Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, ещё не раздавлена»…
…Ей было тогда двадцать девять лет…
И сколько же ещё предстояло впереди…
Николай Молчанов
Брак со вторым мужем – литературоведом Николаем Степановичем Молчановым (1910-1942) – был счастьем для Ольги. Он обладал такой же цельной натурой, что и она. К началу Отечественной войны Николай был почти инвалидом от ран, полученных еще на гражданской. Но когда началась Отечественная, он не стал уклоняться от работы и был направлен на строительство укреплений. Домой вернулся с дистрофией в необратимой стадии.
Мария Фёдоровна рассказывала, что диссертацию Коли о Некрасове и начатую работу «Пять поэтов» Ольга положила в основу книги, которую писала по день смерти, – «Великие поэты века». Сохранились отдельные стихи и наброски.
Николай был не только мужем, но и другом Ольги с университетской скамьи и до своей кончины в блокаду 29.01.1942 г. Это был человек удивительный. И, конечно, главный и единственный для Ольги. Талантливый, чистый душой. Сохранились его письма к Ольге.
Когда Ольга сидела в тюрьме, Колю вызвали в Обком комсомола, «уличили» в «потере бдительности» и предложили отречься от неё, пугая исключением из комсомола, «концом карьеры». Коле был очень дорог его комсомольский билет, но на эти предложения он ответил: «Это недостойно мужчины», – и выложил билет на стол.
Выдержки из Ольгиного дневника:
«14 XI 1941
Я никогда не оставлю его, ни на кого не променяю!Я люблю его, как жизнь, и хотя эти слова истёрты, в данном случае только они точны. <…>
…Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я ещё могу сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего <…> …если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобою <…> НЕТ! Не может быть этого! Инстинкт подсказывает мне правильно – мне надо сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя <…>
О боже мой… О что делать, что делать, как поскорее помочь тебе.
Держись! Ничего, я вытащу тебя… Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов – и бешено работать, чтобы иметь деньги<…>
Мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись ещё немного, мой единственный, моё счастье, изумительный, лучший в мире человек!»
И закончу эту главку стихотворением Ольги Берггольц
29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА
Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова
Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.
Зачем, зачем? Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.
Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна – везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду...
Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила.
Жила всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность – пусть придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.
Ну что ж, пусть будет так...
Путь к отцу
Смерть самого дорогого и близкого человека… Ещё одна потеря…
И – голод. И бомбёжки. Отсутствие тепла, света, воды… Блокадный Ленинград. Ежедневно тающие силы…
И чтобы хоть как-то притупить неизбывную боль и тоску, Ольга морозным февральским днём 1942 года шла пешком из Радиокомитета на улице Ракова (ныне Итальянская), где она и жила, чтобы не тратить силы на дорогу, на Невскую заставу – к отцу.
Фёдор Христофорович пытался записаться добровольцем на фронт, но его по возрасту не взяли, и он заведовал заводской амбулаторией.
Этот путь Ольга описала в стихах:
Шла к отцу и слёз не отирала:
Трудно было руки приподнять.
Ледяная корка застывала
На лице отёкшем у меня.
Тяжело идти среди сугробов:
Спотыкаешься, едва бредёшь.
Встретишь гроб – не разминуться с гробом.
Стиснешь зубы – и перешагнёшь.
И вот выдержки из книги «Дневные звёзды», где описан этот путь.
«…я снарядилась обстоятельно. <…> В маленькую бутылочку с делениями мне налили жидкого чуть сладкого чаю, кто-то подарил две папироски, я взяла свой хлебный паёк. Это было в то время уже целых двести пятьдесят граммов хлеба.
Я решила есть понемножку и ни за что не съедать весь хлеб сразу, хотя думала только о том, что в противогазе моём лежит хлеб – целых двести пятьдесят граммов с довесочками. <…>
Я знала, что идти нужно будет долго Надо дойти до завода Ленина, потом по Шлиссельбургскому. Надо будет даже перейти Неву, подняться на крутой правый берег. От Радиокомитета это примерно километров пятнадцать-семнадцать<…>
Я не была уверена, что дойду до отца, и решила не загадывать так далеко<…> И вот я пошла. Сначала по Невскому, от одного фонарного столба до другого, от одного до другого…<…>
После обстрелов под фонарные столбы подтаскивали изуродованные трупы горожан. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытаясь устоять на ногах, и медленно опускались к их подножию, чтобы больше не встать…<…>
Сейчас выну хлеб и съем, – подумала я, и в глазах у меня потемнело. Я остановилась, рывком расстегнула противогаз… и вдруг мне удалось подавить внезапно вспыхнувшее, единственное за всю дорогу живое чувство. Я сказала себе: нет. У завода Ленина. Сяду. Отопью глоточек чайку. Съем хлебца. <>
Я мерно, бездумно шла вперёд и по дороге встречала ещё и ещё гробы, и мертвецов, которых везли на санках зашитыми в простыни или пикейные одеяла, и мертвецов, лежавших в снегу ногами к тропинке. Почти все они были разуты. Ну что ж, правильно – обувь была нужна тем, кто ещё жил <…>
…засугробленная Нева казалась необозримой, свирепой снежной пустыней. Отсюда до отца было дальше всего, хотя я видела через Неву его фабрику и знала, что влево от главных корпусов стоит бревенчатая амбулатория. <…>
Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверху в сизо-розовых сумерках. <…> Мне не взобраться на гору, – вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен. Я всё же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.
Женщина <…> с коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон литра на два, не больше, но и то клонилась направо.
– Поползём, подруга? – спросила она.
– Поползём!
И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползди вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.
– Доктор ступеньки вырубил, – задыхаясь, сказала на четвёртой остановке женщина. – дай ему бог… всё легче… за водичкой ходить.
Вторую половину пути мы переставляли бидон по очереди, то я, то она, и так доползли до верха и дошли до ворот фабрики. <…>
Фёдор Христофорович
Он был изумительным врачом. Мария Фёдоровна (младшая дочь) характеризовала его как интеллигента чеховского типа. После Дерптского университета закончил Военно-медицинскую академию.
Участник Первой мировой и Гражданской войн: начальник и главный врач поезда Красного Креста. Пациенты его обожали.
Начиная с сентября 1941 года его несколько раз вызывали то в прокуратуру, то в Большой дом», вынуждая сделаться секретным осведомителем (то есть, доносить на своих больных, которые доверяли ему, как богу). Но Фёдор Христофорович наотрез отказался: «Это не моя профессия».
В самые тяжёлые блокадные дни заведовал фабричной амбулаторией. Не согласился покидать Ленинград: «Отсюда только на фронт». Но в середине 1942-го его обманом вызвали на «эвакуацию» и этапом отправили в Минусинский край (Сибирь), где вынужден был жить до 1948 года.
Никакие ходатайства не помогали.
Но однажды Ольга (уже известная, почитаемая и уважаемая как «блокадная мадонна»), находясь в театре, увидела, что через ряд сидит один из её тюремных палачей – старший следователь Фалин.
Он в это время уже был прокурором. Главным прокурором города. Он оглянулся, осклабился: «Ольга Фёдоровна, вы узнаёте меня?» Она говорит: «Узнаю». Сжала зубы. «Чем могу быть полезен»?
И вот тут Ольга сказала: «Можете быть полезны». И просила за отца.
Фалин сразу согласился: «Какие пустяки». И действительно помог. Фёдор Христофорович вернулся в Ленинград. Правда, измученный скитаниями последних лет, вскоре умер…
* * *
Но вернусь в февраль 1942 года, когда Ольга, потерявшая мужа, из последних сил добралась до отцовской амбулатории.
Выдержки из «Дневных звёзд»:
«Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял отекшее свое лицо, взглянул на меня снизу вверх очень пристально и вежливо спросил:
– Вам кого, гражданка?
И я почему-то ответила деревянным голосом, слышным самой себе:
– Мне нужно доктора Берггольц.
– Я вас слушаю. Что вас беспокоит?
Я смотрела на него и молчала. Не рыдание, не страх, нечто неведомое, – что-то, что я не могу определить даже теперь, – охватило меня, но тоже что-то мёртвое, бесчувственное. Он участливо повторил:
– На что жалуетесь?
– Папа, – выговорила я, – да ведь это я – Ляля!..
Он молчал, как мне показалось, очень долго, а вероятно, всего несколько секунд. Он понял, почему я пришла к нему. Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку.
Потом, рывком подняв лицо, твёрдым и как бы слегка отстраняющим взором взглянул мне в глаза и негромко сказал:
– Ну, пойдём, девчонка, кипяточком попою. Может, поесть что-нибудь соорудим!.. – И добавил, чуть усмехнувшись: – «Щи-то ведь посоленные…»
Я поняла его цитату и услышала всю горечь, с которой он сказал её. Он очень любил Николая. Но ни о нём, ни о смерти его мы не говорили больше ни слова. <…>
Две женщины в халатах поверх ватников — одна низенькая и черноглазая, другая очень высокая, с резко подчеркнутыми истощением чертами лица – всплеснули руками, увидя меня. <…>
— А ну-ка, бабоньки, чем богаты? Кипяточку нам с дочкой!
Матрёша стала хлопотать у маленькой плиты, что-то жарить на сковородке.
Отвратительная вонь распространилась по крохотной кухоньке. Я догадалась, что это какой-нибудь технический жир. Пахло омерзительно, но – о, как здесь было тепло!..
Я сняла платок, пальто, вязаную шапку, косынку, надетую под шапку. Я осталась в одном лыжном костюме с непокрытой головой.
– Как у тебя тепло, папа! <…>
Я вытащила остаток своего пайка и «гвоздик»-папироску. Отец захлебнулся от счастья.
– Вот это да! – сказал он, благоговейно беря «гвоздик» своими большими, умными руками хирурга. – Богато живёте, мужики!
Нечто вонючее и странное на сковородке было подано на стол. Мой ломтик хлеба мы по-аптекарски аккуратно поделила на всех четверых, разлили по кружкам кипяток – тоже всем ровнёхонько-ровнёхонько, сели у столика, и было так тесно, что мы невольно прижимались друг и другу, как и битком набитом вагоне…<…>
– А у нас на Кузнечном бадаевскую землю продают, — сказала я, – Когда бадаевские склады горели, оказывается, масса сахару расплавленного в землю ушло. Первый метр – сто рублей стакан, второй – пятьдесят. Разводят водой, процеживают и пьют…<…>
Я совершенно опьянела от вонючей еды, от кипятка, от тепла, меня клонило куда-то в сторону, я стала не то засыпать, не то умирать. Черноглазая Матрёша первая заметила моё состояние.
– Доктор, – сказала она, – а дочке-то спать пора.
И уже тоном приказа добавила:
– Снимайте валенки, я вам ноги вымыть помогу. Я всё ж-таки тут снежку натаяла, согрела.
– Мне не снять валенки, Матрёша.
– Ну-ка, выпей, – сказал отец и дал чего-то горького.
А Матрёша ловко, хотя и с трудом, стянула валенки с распухших моих ног и погрузила их в ведерко с тёплой водой. О, какое это было блаженство, ясное, младенческое блаженство!
Тёплая вода и чьи-то ласковые, родные и властные руки, расторопно скользящие по ноющим ступням, – то санитарка Матрёша, стоя на коленях, мыла и растирала мне ноги, и мне почему-то не было стыдно, что мне, взрослому человеку, моют ноги, а она поглядывала на меня снизу вверх милыми своими круглыми глазами и приговаривала чуть нараспев, точно рассказывала сказку про кого-то другого, и я, сквозь сон, слушала её:
– …А шла-то издалёка, из города, да ведь всё по снегу да по льду… Умница, к папочке шла, правильно надумала… А ведь как на папочку похожа, до чего ж похожа, портрет вылитый…
Я вздрогнула, как вздрагивают, просыпаясь, и взглянула прямо в глаза Матрёши: санитарка смотрела на меня с такой любовью, что мне стало ясно: эта женщина тоже любит моего отца…»
Муська
Да, та самая Муська – не разлей вода сестрёнка, которая в детстве говорила басом и сызмальства была упрямым недоверчивым скептиком.
Та самая Муська, которую Ольга называла Максимкой – так уж у сестёр повелось…
Муська, всеми правдами и неправдами вытащившая сестру из тюрьмы в 1938-м…
И буквально спасшая Ольгу от голодной смерти в феврале 1942-го. Благодаря скептицизму, упорству, уверенности в своей правоте сумевшая сделать практически невозможное.
Она добилась через партком Союза писателей отгрузки целого грузовика (!!!) ценнейших продуктов для сотрудников ленинградского Радиокомитета. И лично сопровождала этот грузовик через Дорогу Жизни в осаждённый город.
Больше того – договорилась о переправке Ольги на Большую землю на самолёте для отдыха и реабилитации, после чего Ленинградская мадонна снова вернулась в блокадный город и продолжала своими волшебными радиопередачами поддерживать ленинградцев.
Да, это подвиг. А Мария Фёдоровна говорила о нём как о чём-то само собой разумеющемся.
Вот как пишет об этом событии Ольга в дневнике от 25.02. 1942 г.:
«А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.
Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза писателей, мне тоже – большая посылка, и она кое-что привезла.
Она ехала кружным путём, одна с водителем, вооружённая пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная.
Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобождённых от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.
Горжусь ею и изумляюсь ей, – вздорной моей, сварливой Муське – до немоты, до слёз, до зависти. <…>
Она привезла много отличных вещей: 3 кило шоколаду, 4 банки сгущённого молока и т.д.
Кое-что возьмём обратно в Москву – там тоже плохо, – порядочно отдаём папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой»
Вот каким удивительным человеком была Мария Фёдоровна Берггольц…
Привожу одно из стихотворений Ольги Берггольц, написанное в сентябре 1941 г.
СЕСТРЕ
Машенька, сестра моя, москвичка!
Ленинградцы говорят с тобой.
На военной грозной перекличке
слышишь ли далёкий голос мой?
Знаю – слышишь. Знаю – всем знакомым
ты сегодня хвастаешь с утра:
– Нынче из отеческого дома
говорила старшая сестра. —
…Старый дом на Палевском, за Невской,
низенький зелёный палисад.
Машенька, ведь это – наше детство,
школа, ёлка, пионеротряд…
Вечер, клёны, мандолины струны
с соловьём заставским вперебой.
Машенька, ведь это наша юность,
комсомол и первая любовь.
А дворцы и фабрики заставы?
Труд в цехах неделями подряд?
Машенька, ведь это наша слава,
наша жизнь и сердце – Ленинград.
Машенька, теперь в него стреляют,
прямо в город, прямо в нашу жизнь.
Пленом и позором угрожают,
кандалы готовят и ножи.
Но, жестоко душу напрягая,
смертно ненавидя и скорбя,
я со всеми вместе присягаю
и даю присягу за тебя.
Присягаю ленинградским ранам,
первым разорённым очагам:
не сломлюсь, не дрогну, не устану,
ни крупицы не прощу врагам.
Нет! По жизни и по Ленинграду
полчища фашистов не пройдут.
В низеньком зелёном палисаде
лучше мёртвой наземь упаду.
Но не мы – они найдут могилу.
Машенька, мы встретимся с тобой.
Мы пройдёмся по заставе милой,
по зелёной, синей, голубой.
Мы пройдёмся улицею длинной,
вспомним эти горестные дни
и услышим говор мандолины,
и увидим мирные огни.
Расскажи ж друзьям своим в столице:
– Стоек и бесстрашен Ленинград.
Он не дрогнет, он не покорится, —
так сказала старшая сестра.
Блокадная Мадонна
А о том, как любили, буквально боготворили Ольгу Берггольц ленинградцы, говорит хотя бы такой эпизод, рассказанный Марией Фёдоровной.
«Это произошло на сороковой день после её смерти. Мой муж пошёл в один из действующих соборов подать записку об упоминании за упокой. Священник, который принимал записку, осторожно его спросил:
– Скажите, это не об Ольге Берггольц?
Муж подтвердил, и священник показал ему толстую пачку записок и сказал:
– Мы отдельно их откладываем, их уже более сорока.
И во время службы непрерывно шло, как удар в колокол, её имя: имена, имена, имена… Ольгу, ещё, ещё, ещё имена… Ольгу…. Ещё – Ольгу, Ольгу, Ольгу, – более сорока раз. И я знала, что это происходило не в одном храме.
Что же произошло? Разве верующие не знали, что Ольга – коммунистка? Великолепно знали. Это очень ярко выражено во всём её творчестве. Она коммунистка с самой большой буквы, с которой можно написать это слово.
И тем не менее это было желанием прихожан.
В народе есть такое присловье: вера веру слышит, вера вере голос подаёт. И неважно название веры, если это вера добра. Люди это чувствовали».
Её не зря называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных дней город говорил её голосом. Он входил в холодные, нетопленные дома, и столько в нём было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
«В истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых», — говорил о ней писатель Даниил Гранин. Обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности — такой Ольга запомнилась современникам.
Она разделила судьбу своего народа. И всё же далеко не каждой женщине довелось пройти через такие испытания, через которые прошла эта хрупкая женщина. При этом она не ожесточилась сердцем, а продолжала любить…
Что может враг? Разрушить и убить?
И только-то? А я могу любить!
Ольга, как и другие жители блокадного Ленинграда, была совершенно истощена, но держалась на удивление стойко. Какая же сила воли таилась в ней!
Она не унывала, не падала духом, а каждый день садилась к микрофону (на второй день войны Берггольц пришла работать на ленинградское радио), и ее мягкий, спокойный голос, наполненный уверенностью и энергией, вселял надежду на то, что враг будет отброшен от стен героического города, что будет одержана победа.
И находила в себе силы даже в блокадном городе, в нечеловеческих условиях – быть счастливой!
Я счастлива, и всё яснее мне,
Что я всегда жила для этих дней,
Для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
Что рядовым вошла в судьбу твою,
Мой город – в званье твоего поэта.
Писатель Александр Фадеев, видевший Берггольц в блокадную зиму 1941 года, вспоминал: «У неё умер муж, ноги её опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. И в ответ на её стихи к ней посыпались письма от рядовых ленинградцев – товарищей по горю и борьбе».
Фадеев сказал и о главной причине беспримерного нравственного влияния слова «Блокадной музы»: «она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыденном рядовом ленинградце».
Изо дня в день, на грани жизни и смерти, из последних сил, Ольга Берггольц совершала духовный подвиг. Недаром немецкие фашисты включили её в список лиц, подлежащих немедленному уничтожению в случае взятия города.
Именно её знаменитые строки «Никто не забыт, ничто не забыто» были высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Она хотела после смерти лежать там, вместе с жертвами блокады.
Но «хозяин» Ленинграда Григорий Романов не выполнил это желание музы блокадного города, и Ольгу Берггольц, ушедшую из жизни 13 ноября 1975 года, похоронили на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Друзья попросили, чтобы над гробом ленинградской Мадонны прозвучало «Ныне отпущаеши…», но власти и это запретили, сославшись на то, что Берггольц была коммунисткой…
Мария Фёдоровна
…Мария Федоровна дважды была замужем, от каждого мужа родился сын.
С писателем Юрием Либединским сестру познакомила Ольга. Свой роман «Рождение героя» Юрий Николаевич посвятил Мусе Берггольц.
Они прожили вместе 10 лет.
Сын Юрия и Марии Михаил (1931-2008) просто потрясающе похож на отца! К сожалению, я не сумела найти Мишиных фотографий ни у себя в архиве, ни в интернете. Но помню его очень хорошо. И стезёй своей он тоже избрал литературное творчество. Серьёзно и скрупулезно занимался восстановлением своего генеалогического древа.
Жил в Москве, периодически приезжая к матери в Санкт-Петербург.
Однажды он на пару дней приютил меня в своей московской квартире…
Второй муж Марии Фёдоровны – Владимир Дмитриевич Янчин (1912-1994). Сын Федя родился в 1950 году, стал актёром.
Есть у Марии Берггольц и внучка – Ольга Фёдоровна Янчина (1982 г.р).
После смерти сестры Мария Фёдоровна весь остаток своей жизни издавала Ольгины книги, бесконечно составляя сборники и подготавливая предисловия к ним, много выступала на радио, писала. О себе ничего. Ольга, Ольга, Ольга...
Сама жила в нищенских условиях, в неремонтированной десятилетиями квартире, где даже горячая вода была проблемой. Однако квартира – двухкомнатная, в Петроградском районе на Мытнинской набережной, в непосредственной близости с Пушкинской площадью – только Биржевой мост перейти…
В бытность моего знакомства с Марией Фёдоровной она занимала комнату справа от входа, и если пройти по довольно просторной прихожей, то слева располагалась Федина комната (туда я не заходила), а справа – кухня, где обычно проходили наши посиделки.
Разыскивая в сети дополнительную информацию по теме, я в нескольких местах наткнулась на высказывания, что мол, Мария Фёдоровна якобы спала на полу на каком-то тюфячке. Это неправда. С полной ответственностью свидетельствую, что кровать у неё была нормальная. Кроме того, она частенько отдыхала на кухонном диванчике, где и провела свои последние дни.
Забавно, что источником информации о тюфячке могла невольно стать я… Ибо кому-то рассказывала, как Мария Федоровна однажды в 2002-м году по случаю летнего отключения горячей воды приехала ко мне на Гражданский проспект в недавно купленную и ещё не обставленную мебелью квартиру помыться и осталась ночевать.
А поскольку прилечь там было не на что, кроме как на тюфячок на пол, её это не смутило. А кто-то из моих слушателей неправильно сынтерпретировал, вот и пошёл по интернету слух, что Мария Фёдоровна спала на полу…
И в заключение – вернусь опять к Ольгиной книге «Дневные звёзды», так похожей на дневниковые записи, ставшей главной книгой её жизни, размышлениями, воспоминаниями, выводами… Вперемежку со стихами…
Мне очень близок такой подход к литературе.
Очень близко стремление не только брать, но и отдавать, и даже больше, чем взял, – по принципу колодца: чем больше черпаешь из него, тем чище и лучше вода, тем её больше. Отдавать трансформированным в слова и поступки, идущие от сердца, от души…
И я очень ценю и берегу подарки Марии Фёдоровны – Ольгину вазочку, стеклянную, в форме подковы, с гравировкой, и две книги с дарственными надписями от самой Марии Фёдоровны. Горжусь этими надписями: «Моей Тане Громовой. Люби – пока любится!» (1999)
И: «Милой Татьяне – с её чудным внимательным взглядом, с её доверчивостью и щедростью: готовностью ко всему – к счастью, печали и радости, к работе и помощи – и всё от всего-то сердца! С сердечной симпатией к смелости её духа» (2000)
Она и сейчас стоит перед моим внутренним взором – худенькая, хрупкая, с несгибаемой волей, сделавшая всё для того, чтобы увековечить память о своей необыкновенной сестре. И сама – необыкновенная…
…Она умерла 8 августа 2003 года, не дожив около месяца до своего девяностадвухлетия… Это печальное известие я получила от её старшего сына, который был тогда в Санкт-Петербурге.
Москвич, Миша не знал, куда обратиться, чтобы была исполнена последняя воля матери – быть похороненной рядом с сестрой на Волковом кладбище. И я позвонила Семёну Ботвиннику. Он помог… Марию Федоровну похоронили на Литераторских мостках рядом с Ольгой Фёдоровной Берггольц.
«Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом, – говорит Ольга, – Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно…»
И закончить эти заметки хочу двумя своими короткими стихотворениями, посвящёнными Ольге Берггольц.
***
О господи, как глубоко и больно
Пронзают душу Ольгины стихи!
Берггольцевские образы невольно
Рождают отклик…
Как мы далеки по времени,
По духу – как близки!
О ЖЕЛАЕМОМ
Отдавать себя без размышлений,
Ничего не требуя взамен,
Отрешиться от пустых сомнений,
Не страшиться сплетен и измен,
Растворять обиды и страданья,
Искренне судьбу благодарить
За возможность новых испытаний
И – творить…
**
Сегодня как-то совершенно неожиданно для себя открыла в коридоре дверцы книжного шкафа… Да, в коридоре. У нас в «писательской» квартире книжные шкафы и полки стоят и висят везде, куда ни кинешь взор…
Так вот, стало быть, открываю дверцу книжного шкафа, и смотрят на меня со средней полочки выстроившиеся в ряд дневники.
Мои дневники. Я их периодически то начинаю вести, то забрасываю.
Дневники вели некоторые очень значимые для меня люди – родственники, друзья, знакомые только по книгам писатели, литературные персонажи...
Дедушка мой, мамин отец, дневники вёл. Только вот увидеть мне не довелось ни деда, ни его дневников. Он умер за полгода до моего рождения, а дневники во время ремонта мама с папой выбросили как ненужный хлам.
«Здесь любые записи по числам, вязь пера, штрихи карандаша, – всё, что с детской щедростью и смыслом собирает Танина душа», – это строки из поэмы Сергея Смирнова «Сердце и дневник»…
Итак, открываю я дверцу коридорного книжного шкафа, вижу ряд записных книжек и беру из середины первую попавшуюся…
Декабрь 2001-февраль 2002.
Погружаюсь в чтение и не могу оторваться…
…Встречи с младшей сестрой музы блокадного Ленинграда Ольги Берггольц Марией Фёдоровной. Ей на тот момент было 89 лет! И несмотря на разницу в возрасте, мы с ней дружили! И Мария Фёдоровна Берггольц много рассказывала о своей сестре Ольге, которую очень любила.
После смерти Ольги Берггольц в ноябре 1975 года Мария Фёдоровна посвятила свою жизнь восстановлению доброго имени сестры, изданию её творческого наследия, – то есть, всему тому, чтобы «гослос блокадного Ленинграда» не умолк и не затерялся в нестройном хоре советской литературы.
Она составила и подготовила к изданию около двух десятков Ольгиных книг. Была хранительницей её дневников, часть из них вошла в 2000 году в книгу «Встреча», которую Мария Федоровна мне подписала…
…Нас познакомил мой старший друг, Андрей Андреевич Морозов. Это было в конце девяностых. Андрей Андреевич опекал Муську (так он её за глаза называл): выносил мусор, мыл туалет и ванную, покупал продукты, приносил что-то из одежды…
Я тоже подключилась и стала помогать – бегала в магазин, читала то, что она меня просила (у Марии Фёдоровны была сильнейшая близорукость), сопровождала в деловых поездках. Ей было под девяносто! Железная воля, очень непростой характер… Но мы с ней ладили…
Мария Фёдоровна дала мне рекомендацию в Союз литераторов… Правда, тогда до приёма в эту организацию так дело и не дошло.
Очень запомнился один случай. Мы были в Доме книги – Мария Фёдоровна хотела убедиться, что Ольгины новые сборники поступили в продажу. Ей нужно было без лифта подняться на четвёртый этаж, и с моей помощью она благополучно совершила этот подвиг.
А вот при спуске, на последнем лестничном марше вдруг упала.
Я очень испугалась, побежала к продавцам, попросила вызвать «скорую»…
Медики приехали довольно быстро. И выяснилось, что это… голодный обморок! И она никому не сказала, что ей нечего есть…
Моё любимое стихотворение у Ольги Берггольц вот это:
Сегодня вновь растрачено души
на сотни лет,
на тьмы и тьмы ничтожеств...
Хотя бы часть её в ночной тиши,
как пепел в горсть, собрать в стихи...
И что же?
Уже не вспомнить и не повторить
высоких дум, стремительных и чистых,
которыми посмела одарить
лжецов неверующих и речистых.
И щедрой доброте не просиять,
не озарить души потайным светом;
я умудрилась всю её отдать
жестоким, не нуждающимся в этом.
Всё роздано: влачащимся – полёт,
трусливым и безгласным – дерзновенье,
и тем, кто всех глумливей осмеёт,-
глубинный жемчуг сердца – у м и л е н ь е.
Как нищенка, перед столом стою.
Как мать, дитя родившая до срока.
А завтра вновь иду и отдаю
всё, что осталось, не приняв урока.
А может быть – мечты заветней нет, –
вдруг чье-то сердце просто и открыто
такую искру высечет в ответ,
что будут все утраты позабыты?
И в этом мироощущении, мне кажется, мы с Ольгой похожи: в неуёмном желании встретить простые и открытые сердца, высекающие ответные искры…
От себя ещё добавлю: ищу себя в других я неустанно…
Я собираюсь рассказать немножко подробнее о Ляльке и Муське – Ольге Фёдоровне и Марии Фёдоровне Берггольц…
Обе сестрёнки родились в Санкт-Петербурге в начале ХХ века: Оля – 16 мая 1910, а Маша – 10 сентября 1912 года. В семье их называли Ляля и Муся.
Отец – Фёдор Христофорович Берггольц (1885-1948), выпускник дерптского университета, заводской врач-хирург со шведско-немецкими корнями, потомок военного, взятого в плен при Петре I.
Мать – Мария Тимофеевна, урождённая Грустилина (1884-1957), женщина интеллигентная и образованная, из «бывших». Обожала поэзию и музыку, прививала эту любовь детям.
Были ещё бабушка и дедушка – Ольга Михайловна и Христофор Фридрихович Берггольц. Дед – образованнейший человек, он хорошо говорил по-немецки, по-русски, по-латышски.
А бабушка… Ох, уж эта бабушка! Не терпящая возражений, властная… Таких называют «салтычихами».
Семья обитала в старинном доме у Невской заставы.
Помогали по хозяйству няня (она же домработница) Авдотья и гувернантка…
Мария Фёдоровна говорила, что в Ольгиной жизни с самого рождения всё было – как по ухабам: то вверх, то вниз. На основании этих рассказов у меня появилась литературная версия появления на свет Ольги Берггольц…
Повествование ведётся от её имени…
«Вижу из вечности, со стороны…»…
Из далёкого далёка видится и осознаётся всё совсем по-иному, нежели лицом к лицу…
Вот и я смотрю теперь издалека, смотрю, как принимали меня и отвергали – многократно… Постоянно… С начала начал…
…Мои родители так любили друг друга, что дожидаться венчания было неимоверно трудно, и потому, когда мне пришла пора появиться на свет, бабушка, Ольга Михайловна, не сомневалась, что отец прикрывает чужой грех, а она была ого-го какая властная. Даже деспотичная, до самодурства, можно сказать. Не зря про неё говорили, что она из князей Мышег-Мышецких – рюриковичей, ведущих свой род от внука святого великомученика князя черниговского Михаила Всеволодовича, замученного татарами в Орде. В связи с тем, что Мышецкие оставались староверами, земли их были по большей части реквизированы в казну, а сами они по указу Елизаветы Петровны объявлены «крестьянами, вне происхождения и родовитости».
…Цокот копыт по булыжной мостовой, скрип рессор, сдавленные мамины стоны и взволнованный голос отца:
– Терпи, Маня, терпи! – он – медик, хирург, очень боится принимать роды, да ещё и в бричке.
И я принимаю решение.
Для того, чтобы… Для того, чтобы перекрыть… душевные муки… мамы, надо добавить… мук физических.
И я встаю поперёк.
Теперь мама точно дотерпит.
…Родильное отделение. Папа принимает роды у мамы. Но плод имеет поперечное предлежание. Я чувствую, что не хватает кислорода… Мне не выйти и уже не развернуться самостоятельно…
И я умоляю высшие силы помочь мне появиться на свет, – чтобы я могла исполнить миссию, с которой иду в этот мир.
Папа руками разворачивает меня в родовых путях и извлекает на свет. Спасибо, папа. Но я не могу дышать… Я синяя… и сердцебиение отсутствует… Чувствую, как меня погружают то в горячую, то в холодную воду. Горячая – холодная… Горячая – холодная… Горячая – холодная.
Я принята земным миром. Я изгнана из материнской утробы.
У мамы – заражение крови. Родильная горячка. Она на грани жизни и смерти.
Бабушка категорически против моего появления в её доме. Меня определяют в приют. Кричу целыми днями – от безысходности, от отсутствия материнского тепла, от людского равнодушия. Зачем я пришла в этот мир? Но когда сон обнимает меня, обессиленную, кто-то словно нашёптывает, напевает, что всё будет хорошо…
Бабушка так страстно любит папу, так хочет, чтобы он жил только для неё. А тут – какая-то невестка, которая, безусловно, не чета гениальному сыночку, и в подмётки ему не годится! Вот и хочет найти Ольга Михайловна, к чему бы придраться. А тут – нате ж вам! – разродилась раньше срока, мерзавка! Не иначе Феденьку вокруг пальца обвела, а приплод понесла от нищеброда какого-нибудь! Да чтоб духу её в моём доме не было!
…А Феденька-то от расстройства тоже слёг в нервной горячке…
Два месяца прошло в боли и всеобщем непринятии.
И сдалась бабушка – поняла, что иначе сына потеряет. Самолично явилась в приют, забрала меня. А уж как увидела, что я как две капли воды на её Феденьку возлюбленного похожа, и вовсе растаяла. И назвала – в свою честь – Ольгой.
Тут и мама из больницы вернулась, и папа на радостях выздоровел.
Приняли меня! Приняли!
До следующего изгнания… Но это уже другая история.
Хочу предложить к прочтению несколько отрывков из великолепной книги Ольги Берггольц «Дневные звёзды». Она называла её Главной книгой своей жизни.
«…мне снится город детства — Углич,
куда мать увезла сестру и меня из Петрограда в 1918 году и где прожили мы почти два с половиной года, пока отец далеко на юге воевал с белыми. Мы жили то на одной, то на другой улице в разных домах, но дольше всего по ордеру горкоммуны в келье Богоявленского девичьего монастыря; это было наше последнее жильё в Угличе.
Наш корпус был самым дальним, угловым, он стоял в конце монастырской стены, близ дремучего садика, над глубоким, притаившимся под огромными липами прудом, а в школу мы иногда ходили не по улице, а по тёмному коридору в толстой каменной монастырской стене. Ходить по этому коридору было страшно, зато в оттепель не промокали валенки. А школа помещалась в том же монастыре, на другом конце, в красном кирпичном здании, которое раньше называлось «покоями» и стояло прямо напротив высокого белого собора с пятью синими главами, и главы были усыпаны крупными золотыми звёздами.
Мы прожили в келье лето, осень и зиму, – главное, зиму двадцатого года… Ух, какие это были медленные, ледяные вечера, с вонючей слепой коптилкой, с грозным рёвом близких монастырских колоколов, с горючей тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы не умерли там с голоду; но мы помнили, что два года назад в Петрограде мы ели лучше, чем теперь, что там бывала даже колбаса, а в нашей столовой горела висячая лампа с абажуром.
Мы вспоминали эту лампу, как живого, любимого человека, и нам всё казалось, что она и сейчас горит в Петрограде, хотя мама говорила, что дедушка, бабушка и няня Авдотья тоже давно сидят с коптилкой, а едят ещё хуже, чем мы: у нас хоть дуранда есть, вобла бывает и много овсяных высевок, из которых можно варить кисель, а там… и она замолкала. Но невозможно было поверить, что во всех, во всех городах, и в особенности в милом Петрограде, так же голодно, холодно и темно, как у нас в келье. Нет, лампа в петроградском доме, наверное, всё-таки горела…
А мама по вечерам уходила в нашу школу на работу, в ликбез, где старухи учились читать, как маленькие, и мы оставались одни, запертые в сводчатой морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев; монашенки, дежурившие в нашей школе, говорили, что старцы иногда зачем-то «встают из могил», и если б не Тузик – рыжая голодная собака, приставшая к нам в эту зиму, – то было бы совсем страшно.
Как хорошо, что мы уговорили маму взять собаку в келью и потихоньку делились с нею скудной своей едой: она отвечала нам глубокой любовью, она ревниво оберегала нас. Закутавшись в одеяла, придвинув смердящую коптилку к самым книгам, страшась, что коптилка может потухнуть, и потому почти не дыша (мать оставляла нам на всякий случай одну спичку из своего запаса) мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, воинственно навострив рыжие треугольные уши, готовый в любую минуту броситься на старцев, если они вдруг встанут из могил и будут сюда ломиться.
Один раз всё-таки, тяжело вздохнув, Муська загасила коптилку. Единственная спичка сломалась у меня в руке, и головку её мы, конечно, не нашли. Мы оцепенели от ужаса, от внезапной тьмы.
– Теперь мы умрем, – басом сказала Муська.
– Ничего, – прошептала я, – скоро вернётся мама. Это звонят ко всенощной, значит, урок в ликбезе уже кончился. Ведь старухам ко всенощной надо…
Но мне было ещё страшнее, чем сестрёнке.
Тузик подошёл к нам и, положив лапы мне на колени, деловито облизал наши лица. Язык у него был шершавый, горячий, от него пахнуло теплом. Он держался как самый старший в доме.
– Скоро весна, – сказала я. – Мы опять пойдем в лес… на субботник… собирать ландыши для аптеки и шишки для электростанции. Тебе хочется в лес, Муська?
– Я хочу в Петроград, – ответила она тем же грустным басом.
– Это все из-за Колчака, – пояснила я, – нам в классе говорили! И голод, и всё, всё…
И сладкая судорога ненависти сдавила мне горло.
Мы замолчали. А в келье было уже не так темно, как в первую минуту, когда погасла коптилка и сломалась спичка: смутно стали видны контуры лежанки, подушки на кровати и кадка с водой: то полукруглые окошки, чудесно посветлев, лили в келью снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы.
Так мы вместе с Тузиком коротали зиму, встречали милую волжскую весну, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к родным, к хлебу, к светлой висячей лампе».
1920 год. Отец вернулся после семилетнего отсутствия. Он военный врач-хирург, Первая мировая война, потом революция, Гражданская война… Фёдор Христофорович служит врачом на санитарном поезде. Рядом с ним неотлучно находится хирургическая медсестра Варвара, бывшая княгиня. Четырежды она спасает доктора от близкой смерти – тиф свирепствует… Варвара и Фёдор любят друг друга… Но Фёдор женат… И в 1920 году он возвращается к семье, чтобы привезти жену и дочерей из Углича в Петроград… Это реальная история жизни семьи Берггольц и отдельных её членов.
«Папа приехал
Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати.
Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая её по плечу, говорил негромко:
– Ну, ничего, ничего…
Невероятная догадка одарила меня.
– Муська, – закричала я, – вставай! Война кончилась! Папа приехал!
Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, тёмное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет – с тех пор как он ушёл на войну ещё с германским царём Вильгельмом – знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он – живой.
– Вы – наш папа? – вежливо спросила Муська.
– Ну да, – ответил он и в шинели сел на край кровати; от него пахло незнакомо: сукном, махоркой, дымом, – пахло войной и папой.
Он тоже, наверное, не узнавал нас и не знал, что с нами делать, он осторожно левой рукой потрогал сперва мою макушку, потом Муськину, а в правой руке всё держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, всё время так держал мешок, чтоб его не украли мародеры или спекулянты.
Мать наконец взяла мешок у него из рук и сказала:
– Ну, поцелуй же ребят…
Но папа не поцеловал нас.
– Вынь им сахару, – сказал он, пристально глядя на Муську.
Мы впервые за последние три года ели сахар, свирепо хрустя и захлебываясь, и всё смотрели на нашего папу и привыкали к нему.
– Папа, – спросила я, – голодное время тоже кончилось? Да, папа?
Мне хотелось говорить слово «папа» все время.
– Кончилось, – ответил он.
– И мы поедем в Петроград, папа?
– Ну конечно. Я же за вами приехал.
– Скоро, папа?
– Через три дня.
Мы завизжали и захлопали в ладоши, – они были липкими от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся – он уже немножко привык к нам – и вдруг стал похож на свой студенческий портрет.
– А пароходы по Волге не ходят! – воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью. – Как же мы?
– А мы прямо на лодке поедем. На большущей такой, знаете? До станции Волга. А оттуда – тук-тук – поездом прямо до Питера.
Он засмеялся, и мы засмеялись и задохнулись от восторга, с обожанием глядя на папу. <…>»
* * *
…Первый муж Ольги Берггольц – поэт Борис Корнилов (помнишь песню: «От Махачкалы до Баку волны катятся на боку, и, качаясь, бегут валы от Баку до Махачкалы»? – он автор текста). В 1927 году у них родилась дочь Иришка.
В 1930 после окончания филологического факультета ЛГУ Ольга уезжает по распределению в Казахстан. В это же время разошлись с Борисом – не сложилось. Ольга вышла замуж за Николая Молчанова, с которым училась вместе в университете. Он даёт ей настоящее счастье. Именно он. «Любовь моя. Всегдашняя». Рождается вторая дочь – Майя.
Вернувшись из Алма-Аты в Ленинград, Ольга Берггольц поселилась вместе с Николаем Молчановым на улице Рубинштейна, 7 – в доме, называвшемся «слезой социализма».
Вот как описывает этот дом в книге «Дневные звезды» сама Ольга:
«Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было “дом-коммуна инженеров и писателей”. А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище – “слеза социализма”.
Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали «слезницами». Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со “старым бытом” (кухня и пелёнки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни.
Не было даже передних с вешалками – вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха: ещё на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма.
Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и “отжившую” кухонную индивидуальную посуду – хватит, от стряпни раскрепостились, – создали сразу огромное количество комиссий и “троек”…
…и даже архинепривлекательный внешний вид дома “под Корбюзье” с массой высоких, крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой “строгостью”, соответствующей новому быту…
И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления… <…>
С пелёнками, которых в доме становилось почему-то всё больше, был просто ужас: сушить их было негде! Мы имели дивный солярий, но чердак был для сушки пелёнок совершенно непригоден.
Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что, если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было всё слышно, вплоть до плохих рифм!»
…В тридцатые годы
для Ольги настаёт период серьёзных испытаний на прочность. Одна за другой, с небольшим временным промежутком, умирают обе дочери. Сначала в 1933 – Майя от диспепсии, не дожив и до года, потом в 1936 – Иришка – осложнение на сердце от недолеченной ангины…
Страшно даже подумать, каково матери терять детей…
В 1937 году (по доносу) Ольгино персональное дело, якобы, за аморальное поведение, разбирают на парткоме. Ох как любили партийные органы сунуть нос в чужую личную жизнь! Своей, что ли, не было? А как любили стукачи доносить! Видимо, удовольствие от этого получали, сродни сексуальному.
Ольгу исключают из Союза писателей и из кандидатов в члены ВКП(б).
Вот что пишет Марии Фёдоровне Берггольц по этому поводу муж Ольги Николай Молчанов:
«Ольга, конечно, будет хлопотать – уже потому, что не хлопотать – значит демонстрировать против народного дела, это вопрос, так сказать, политической грамотности.
С другой стороны, практически ничего ужасного не вижу в том, если Ольгу не восстановят. Неприятно, конечно, но можно будет с большей эффективностью выполнить своё извечное предназначение. А это тоже дело народное, советское, социалистическое.
…Безобразно одно: что Ольга платит не за себя, что у неё все это контрреволюционное блудодейство – от искренности, от излишней доверчивости, от идеализации известных общественных категорий.
Не менее безобразно и то, что за ней очень прочно укрепили репутацию б**ди, – причем это сделали люди из зависти, что им не пришлось испытать Ольгиной благосклонности.
Это пережиток капитализма, извечная история. Хотят опорочить женщину – говорят, что она б**дь. Против мужчин почему-то такого оружия нет».
А вот выдержка из Ольгиного дневника от 7 июня 1937 года:
«Я живу как перед отъездом, когда не осталось больше времени. Если отъезд совершится — в новую жизнь, в новую совсем, то буду я в партии или нет, буду писать или нет, сегодняшние дни всё-таки будут оправданы — для меня, т. е. для одной человеческой жизни. <...>
Эти дни будут оправданы тем, что я стану иной для себя, и постараюсь совершить своё дело для других — написать книгу о жизни, о том, что жить необходимо и всё-таки хорошо. <...>
Мне 27 лет. Я жила, думала, у меня были дети. Я любила, сближалась с другими людьми, работала, я казалась себе и нужной, и хорошей. Какой ужасный итог на сегодня, и что остаётся от всех этих дел, встреч, жизни.
Нет детей. Они умерли. Это непоправимо до смерти моей. Я сама во многом виновата, что не сумела сберечь их…»
Я всеми признан, изгнан отовсюду?
В 1938 году Ольга решается на ещё одного ребёнка. Шестой месяц беременности… Декабрь. Чёрный ворон. Обыск. Изъятие дневников. Допросы. Издевательства. Жестокие побои.
Изнанка светлого и гуманного советского общества строителей коммунизма.
И кто попал в эту адскую машину? Ольга, плоть от плоти советского государства, с восторгом строившая социализм и свято верившая в его идеалы…
А случилось так, что друга семьи Леонида Дьяконова арестовали, и он на допросе под пытками совершил ложное признание, приписав Ольге участие в заговоре против Жданова… И поэтесса попала в ту же мясорубку…
Её, беременную, изощрённо били ногами по животу… Случился выкидыш…
И с тех пор Ольга уже не могла вынашивать детей…
…Около полугода держали Ольгу в тюрьме. А вытащила её оттуда Мария Фёдоровна – та самая Муська, про которую говорили, что она упрямая и склочная. Но если бы не её любовь к сестре, не настойчивость и упорство…
Это она всеми правдами и неправдами подняла на ноги Союз писателей и добилась, чтобы в защиту Ольги выступил тогдашний секретарь парткома Александр Фадеев.
Это она добилась аудиенции у Ольгиного следователя Гоглидзе. Уж не знаю, какими методами она на него воздействовала – в подробности Мария Фёдоровна не вдавалась (а она была красавицей), но после этой аудиенции Ольгу не только выпустили, но и вернули конфискованные дневники…
Вот выдержки из Ольгиных дневников того времени.
Июль 1939: …«Я провела в тюрьме 171 день <…> Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть – но я живу… подкрасила брови, мажу губы…»
Сентябрь 1939: «Всё ещё каждую ночь снится тюрьма, арест, допросы»…
Октябрь 1939: «Да, я ещё не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следоватлем, с комиссией, с людьми о постыдном, состряпанном моём деле. Всё отзывается тюрьмой <…> Она стоит между мной и жизнью».
Декабрь 1939: «Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения<…> …запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обречённости, безысходности, с которыми шла на допросы…
<…>год назад я металась по матрасу возле уборной, – раздавленная, заплёванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (и это – главное!)
И я – уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей… (Это хорошо всё, но не главное).
Значит, я победитель? О, нет!
Нет, хотя я не хочу признать себя и побеждённой. <…> Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, ещё не раздавлена»…
…Ей было тогда двадцать девять лет…
И сколько же ещё предстояло впереди…
Николай Молчанов
Брак со вторым мужем – литературоведом Николаем Степановичем Молчановым (1910-1942) – был счастьем для Ольги. Он обладал такой же цельной натурой, что и она. К началу Отечественной войны Николай был почти инвалидом от ран, полученных еще на гражданской. Но когда началась Отечественная, он не стал уклоняться от работы и был направлен на строительство укреплений. Домой вернулся с дистрофией в необратимой стадии.
Мария Фёдоровна рассказывала, что диссертацию Коли о Некрасове и начатую работу «Пять поэтов» Ольга положила в основу книги, которую писала по день смерти, – «Великие поэты века». Сохранились отдельные стихи и наброски.
Николай был не только мужем, но и другом Ольги с университетской скамьи и до своей кончины в блокаду 29.01.1942 г. Это был человек удивительный. И, конечно, главный и единственный для Ольги. Талантливый, чистый душой. Сохранились его письма к Ольге.
Когда Ольга сидела в тюрьме, Колю вызвали в Обком комсомола, «уличили» в «потере бдительности» и предложили отречься от неё, пугая исключением из комсомола, «концом карьеры». Коле был очень дорог его комсомольский билет, но на эти предложения он ответил: «Это недостойно мужчины», – и выложил билет на стол.
Выдержки из Ольгиного дневника:
«14 XI 1941
Я никогда не оставлю его, ни на кого не променяю!Я люблю его, как жизнь, и хотя эти слова истёрты, в данном случае только они точны. <…>
…Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я ещё могу сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего <…> …если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобою <…> НЕТ! Не может быть этого! Инстинкт подсказывает мне правильно – мне надо сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя <…>
О боже мой… О что делать, что делать, как поскорее помочь тебе.
Держись! Ничего, я вытащу тебя… Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов – и бешено работать, чтобы иметь деньги<…>
Мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись ещё немного, мой единственный, моё счастье, изумительный, лучший в мире человек!»
И закончу эту главку стихотворением Ольги Берггольц
29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА
Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова
Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.
Зачем, зачем? Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.
Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна – везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду...
Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила.
Жила всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность – пусть придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.
Ну что ж, пусть будет так...
Путь к отцу
Смерть самого дорогого и близкого человека… Ещё одна потеря…
И – голод. И бомбёжки. Отсутствие тепла, света, воды… Блокадный Ленинград. Ежедневно тающие силы…
И чтобы хоть как-то притупить неизбывную боль и тоску, Ольга морозным февральским днём 1942 года шла пешком из Радиокомитета на улице Ракова (ныне Итальянская), где она и жила, чтобы не тратить силы на дорогу, на Невскую заставу – к отцу.
Фёдор Христофорович пытался записаться добровольцем на фронт, но его по возрасту не взяли, и он заведовал заводской амбулаторией.
Этот путь Ольга описала в стихах:
Шла к отцу и слёз не отирала:
Трудно было руки приподнять.
Ледяная корка застывала
На лице отёкшем у меня.
Тяжело идти среди сугробов:
Спотыкаешься, едва бредёшь.
Встретишь гроб – не разминуться с гробом.
Стиснешь зубы – и перешагнёшь.
И вот выдержки из книги «Дневные звёзды», где описан этот путь.
«…я снарядилась обстоятельно. <…> В маленькую бутылочку с делениями мне налили жидкого чуть сладкого чаю, кто-то подарил две папироски, я взяла свой хлебный паёк. Это было в то время уже целых двести пятьдесят граммов хлеба.
Я решила есть понемножку и ни за что не съедать весь хлеб сразу, хотя думала только о том, что в противогазе моём лежит хлеб – целых двести пятьдесят граммов с довесочками. <…>
Я знала, что идти нужно будет долго Надо дойти до завода Ленина, потом по Шлиссельбургскому. Надо будет даже перейти Неву, подняться на крутой правый берег. От Радиокомитета это примерно километров пятнадцать-семнадцать<…>
Я не была уверена, что дойду до отца, и решила не загадывать так далеко<…> И вот я пошла. Сначала по Невскому, от одного фонарного столба до другого, от одного до другого…<…>
После обстрелов под фонарные столбы подтаскивали изуродованные трупы горожан. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытаясь устоять на ногах, и медленно опускались к их подножию, чтобы больше не встать…<…>
Сейчас выну хлеб и съем, – подумала я, и в глазах у меня потемнело. Я остановилась, рывком расстегнула противогаз… и вдруг мне удалось подавить внезапно вспыхнувшее, единственное за всю дорогу живое чувство. Я сказала себе: нет. У завода Ленина. Сяду. Отопью глоточек чайку. Съем хлебца. <>
Я мерно, бездумно шла вперёд и по дороге встречала ещё и ещё гробы, и мертвецов, которых везли на санках зашитыми в простыни или пикейные одеяла, и мертвецов, лежавших в снегу ногами к тропинке. Почти все они были разуты. Ну что ж, правильно – обувь была нужна тем, кто ещё жил <…>
…засугробленная Нева казалась необозримой, свирепой снежной пустыней. Отсюда до отца было дальше всего, хотя я видела через Неву его фабрику и знала, что влево от главных корпусов стоит бревенчатая амбулатория. <…>
Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверху в сизо-розовых сумерках. <…> Мне не взобраться на гору, – вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен. Я всё же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.
Женщина <…> с коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон литра на два, не больше, но и то клонилась направо.
– Поползём, подруга? – спросила она.
– Поползём!
И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползди вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.
– Доктор ступеньки вырубил, – задыхаясь, сказала на четвёртой остановке женщина. – дай ему бог… всё легче… за водичкой ходить.
Вторую половину пути мы переставляли бидон по очереди, то я, то она, и так доползли до верха и дошли до ворот фабрики. <…>
Фёдор Христофорович
Он был изумительным врачом. Мария Фёдоровна (младшая дочь) характеризовала его как интеллигента чеховского типа. После Дерптского университета закончил Военно-медицинскую академию.
Участник Первой мировой и Гражданской войн: начальник и главный врач поезда Красного Креста. Пациенты его обожали.
Начиная с сентября 1941 года его несколько раз вызывали то в прокуратуру, то в Большой дом», вынуждая сделаться секретным осведомителем (то есть, доносить на своих больных, которые доверяли ему, как богу). Но Фёдор Христофорович наотрез отказался: «Это не моя профессия».
В самые тяжёлые блокадные дни заведовал фабричной амбулаторией. Не согласился покидать Ленинград: «Отсюда только на фронт». Но в середине 1942-го его обманом вызвали на «эвакуацию» и этапом отправили в Минусинский край (Сибирь), где вынужден был жить до 1948 года.
Никакие ходатайства не помогали.
Но однажды Ольга (уже известная, почитаемая и уважаемая как «блокадная мадонна»), находясь в театре, увидела, что через ряд сидит один из её тюремных палачей – старший следователь Фалин.
Он в это время уже был прокурором. Главным прокурором города. Он оглянулся, осклабился: «Ольга Фёдоровна, вы узнаёте меня?» Она говорит: «Узнаю». Сжала зубы. «Чем могу быть полезен»?
И вот тут Ольга сказала: «Можете быть полезны». И просила за отца.
Фалин сразу согласился: «Какие пустяки». И действительно помог. Фёдор Христофорович вернулся в Ленинград. Правда, измученный скитаниями последних лет, вскоре умер…
* * *
Но вернусь в февраль 1942 года, когда Ольга, потерявшая мужа, из последних сил добралась до отцовской амбулатории.
Выдержки из «Дневных звёзд»:
«Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял отекшее свое лицо, взглянул на меня снизу вверх очень пристально и вежливо спросил:
– Вам кого, гражданка?
И я почему-то ответила деревянным голосом, слышным самой себе:
– Мне нужно доктора Берггольц.
– Я вас слушаю. Что вас беспокоит?
Я смотрела на него и молчала. Не рыдание, не страх, нечто неведомое, – что-то, что я не могу определить даже теперь, – охватило меня, но тоже что-то мёртвое, бесчувственное. Он участливо повторил:
– На что жалуетесь?
– Папа, – выговорила я, – да ведь это я – Ляля!..
Он молчал, как мне показалось, очень долго, а вероятно, всего несколько секунд. Он понял, почему я пришла к нему. Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку.
Потом, рывком подняв лицо, твёрдым и как бы слегка отстраняющим взором взглянул мне в глаза и негромко сказал:
– Ну, пойдём, девчонка, кипяточком попою. Может, поесть что-нибудь соорудим!.. – И добавил, чуть усмехнувшись: – «Щи-то ведь посоленные…»
Я поняла его цитату и услышала всю горечь, с которой он сказал её. Он очень любил Николая. Но ни о нём, ни о смерти его мы не говорили больше ни слова. <…>
Две женщины в халатах поверх ватников — одна низенькая и черноглазая, другая очень высокая, с резко подчеркнутыми истощением чертами лица – всплеснули руками, увидя меня. <…>
— А ну-ка, бабоньки, чем богаты? Кипяточку нам с дочкой!
Матрёша стала хлопотать у маленькой плиты, что-то жарить на сковородке.
Отвратительная вонь распространилась по крохотной кухоньке. Я догадалась, что это какой-нибудь технический жир. Пахло омерзительно, но – о, как здесь было тепло!..
Я сняла платок, пальто, вязаную шапку, косынку, надетую под шапку. Я осталась в одном лыжном костюме с непокрытой головой.
– Как у тебя тепло, папа! <…>
Я вытащила остаток своего пайка и «гвоздик»-папироску. Отец захлебнулся от счастья.
– Вот это да! – сказал он, благоговейно беря «гвоздик» своими большими, умными руками хирурга. – Богато живёте, мужики!
Нечто вонючее и странное на сковородке было подано на стол. Мой ломтик хлеба мы по-аптекарски аккуратно поделила на всех четверых, разлили по кружкам кипяток – тоже всем ровнёхонько-ровнёхонько, сели у столика, и было так тесно, что мы невольно прижимались друг и другу, как и битком набитом вагоне…<…>
– А у нас на Кузнечном бадаевскую землю продают, — сказала я, – Когда бадаевские склады горели, оказывается, масса сахару расплавленного в землю ушло. Первый метр – сто рублей стакан, второй – пятьдесят. Разводят водой, процеживают и пьют…<…>
Я совершенно опьянела от вонючей еды, от кипятка, от тепла, меня клонило куда-то в сторону, я стала не то засыпать, не то умирать. Черноглазая Матрёша первая заметила моё состояние.
– Доктор, – сказала она, – а дочке-то спать пора.
И уже тоном приказа добавила:
– Снимайте валенки, я вам ноги вымыть помогу. Я всё ж-таки тут снежку натаяла, согрела.
– Мне не снять валенки, Матрёша.
– Ну-ка, выпей, – сказал отец и дал чего-то горького.
А Матрёша ловко, хотя и с трудом, стянула валенки с распухших моих ног и погрузила их в ведерко с тёплой водой. О, какое это было блаженство, ясное, младенческое блаженство!
Тёплая вода и чьи-то ласковые, родные и властные руки, расторопно скользящие по ноющим ступням, – то санитарка Матрёша, стоя на коленях, мыла и растирала мне ноги, и мне почему-то не было стыдно, что мне, взрослому человеку, моют ноги, а она поглядывала на меня снизу вверх милыми своими круглыми глазами и приговаривала чуть нараспев, точно рассказывала сказку про кого-то другого, и я, сквозь сон, слушала её:
– …А шла-то издалёка, из города, да ведь всё по снегу да по льду… Умница, к папочке шла, правильно надумала… А ведь как на папочку похожа, до чего ж похожа, портрет вылитый…
Я вздрогнула, как вздрагивают, просыпаясь, и взглянула прямо в глаза Матрёши: санитарка смотрела на меня с такой любовью, что мне стало ясно: эта женщина тоже любит моего отца…»
Муська
Да, та самая Муська – не разлей вода сестрёнка, которая в детстве говорила басом и сызмальства была упрямым недоверчивым скептиком.
Та самая Муська, которую Ольга называла Максимкой – так уж у сестёр повелось…
Муська, всеми правдами и неправдами вытащившая сестру из тюрьмы в 1938-м…
И буквально спасшая Ольгу от голодной смерти в феврале 1942-го. Благодаря скептицизму, упорству, уверенности в своей правоте сумевшая сделать практически невозможное.
Она добилась через партком Союза писателей отгрузки целого грузовика (!!!) ценнейших продуктов для сотрудников ленинградского Радиокомитета. И лично сопровождала этот грузовик через Дорогу Жизни в осаждённый город.
Больше того – договорилась о переправке Ольги на Большую землю на самолёте для отдыха и реабилитации, после чего Ленинградская мадонна снова вернулась в блокадный город и продолжала своими волшебными радиопередачами поддерживать ленинградцев.
Да, это подвиг. А Мария Фёдоровна говорила о нём как о чём-то само собой разумеющемся.
Вот как пишет об этом событии Ольга в дневнике от 25.02. 1942 г.:
«А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.
Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза писателей, мне тоже – большая посылка, и она кое-что привезла.
Она ехала кружным путём, одна с водителем, вооружённая пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная.
Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобождённых от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.
Горжусь ею и изумляюсь ей, – вздорной моей, сварливой Муське – до немоты, до слёз, до зависти. <…>
Она привезла много отличных вещей: 3 кило шоколаду, 4 банки сгущённого молока и т.д.
Кое-что возьмём обратно в Москву – там тоже плохо, – порядочно отдаём папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой»
Вот каким удивительным человеком была Мария Фёдоровна Берггольц…
Привожу одно из стихотворений Ольги Берггольц, написанное в сентябре 1941 г.
СЕСТРЕ
Машенька, сестра моя, москвичка!
Ленинградцы говорят с тобой.
На военной грозной перекличке
слышишь ли далёкий голос мой?
Знаю – слышишь. Знаю – всем знакомым
ты сегодня хвастаешь с утра:
– Нынче из отеческого дома
говорила старшая сестра. —
…Старый дом на Палевском, за Невской,
низенький зелёный палисад.
Машенька, ведь это – наше детство,
школа, ёлка, пионеротряд…
Вечер, клёны, мандолины струны
с соловьём заставским вперебой.
Машенька, ведь это наша юность,
комсомол и первая любовь.
А дворцы и фабрики заставы?
Труд в цехах неделями подряд?
Машенька, ведь это наша слава,
наша жизнь и сердце – Ленинград.
Машенька, теперь в него стреляют,
прямо в город, прямо в нашу жизнь.
Пленом и позором угрожают,
кандалы готовят и ножи.
Но, жестоко душу напрягая,
смертно ненавидя и скорбя,
я со всеми вместе присягаю
и даю присягу за тебя.
Присягаю ленинградским ранам,
первым разорённым очагам:
не сломлюсь, не дрогну, не устану,
ни крупицы не прощу врагам.
Нет! По жизни и по Ленинграду
полчища фашистов не пройдут.
В низеньком зелёном палисаде
лучше мёртвой наземь упаду.
Но не мы – они найдут могилу.
Машенька, мы встретимся с тобой.
Мы пройдёмся по заставе милой,
по зелёной, синей, голубой.
Мы пройдёмся улицею длинной,
вспомним эти горестные дни
и услышим говор мандолины,
и увидим мирные огни.
Расскажи ж друзьям своим в столице:
– Стоек и бесстрашен Ленинград.
Он не дрогнет, он не покорится, —
так сказала старшая сестра.
Блокадная Мадонна
А о том, как любили, буквально боготворили Ольгу Берггольц ленинградцы, говорит хотя бы такой эпизод, рассказанный Марией Фёдоровной.
«Это произошло на сороковой день после её смерти. Мой муж пошёл в один из действующих соборов подать записку об упоминании за упокой. Священник, который принимал записку, осторожно его спросил:
– Скажите, это не об Ольге Берггольц?
Муж подтвердил, и священник показал ему толстую пачку записок и сказал:
– Мы отдельно их откладываем, их уже более сорока.
И во время службы непрерывно шло, как удар в колокол, её имя: имена, имена, имена… Ольгу, ещё, ещё, ещё имена… Ольгу…. Ещё – Ольгу, Ольгу, Ольгу, – более сорока раз. И я знала, что это происходило не в одном храме.
Что же произошло? Разве верующие не знали, что Ольга – коммунистка? Великолепно знали. Это очень ярко выражено во всём её творчестве. Она коммунистка с самой большой буквы, с которой можно написать это слово.
И тем не менее это было желанием прихожан.
В народе есть такое присловье: вера веру слышит, вера вере голос подаёт. И неважно название веры, если это вера добра. Люди это чувствовали».
Её не зря называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных дней город говорил её голосом. Он входил в холодные, нетопленные дома, и столько в нём было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
«В истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых», — говорил о ней писатель Даниил Гранин. Обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности — такой Ольга запомнилась современникам.
Она разделила судьбу своего народа. И всё же далеко не каждой женщине довелось пройти через такие испытания, через которые прошла эта хрупкая женщина. При этом она не ожесточилась сердцем, а продолжала любить…
Что может враг? Разрушить и убить?
И только-то? А я могу любить!
Ольга, как и другие жители блокадного Ленинграда, была совершенно истощена, но держалась на удивление стойко. Какая же сила воли таилась в ней!
Она не унывала, не падала духом, а каждый день садилась к микрофону (на второй день войны Берггольц пришла работать на ленинградское радио), и ее мягкий, спокойный голос, наполненный уверенностью и энергией, вселял надежду на то, что враг будет отброшен от стен героического города, что будет одержана победа.
И находила в себе силы даже в блокадном городе, в нечеловеческих условиях – быть счастливой!
Я счастлива, и всё яснее мне,
Что я всегда жила для этих дней,
Для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
Что рядовым вошла в судьбу твою,
Мой город – в званье твоего поэта.
Писатель Александр Фадеев, видевший Берггольц в блокадную зиму 1941 года, вспоминал: «У неё умер муж, ноги её опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. И в ответ на её стихи к ней посыпались письма от рядовых ленинградцев – товарищей по горю и борьбе».
Фадеев сказал и о главной причине беспримерного нравственного влияния слова «Блокадной музы»: «она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыденном рядовом ленинградце».
Изо дня в день, на грани жизни и смерти, из последних сил, Ольга Берггольц совершала духовный подвиг. Недаром немецкие фашисты включили её в список лиц, подлежащих немедленному уничтожению в случае взятия города.
Именно её знаменитые строки «Никто не забыт, ничто не забыто» были высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Она хотела после смерти лежать там, вместе с жертвами блокады.
Но «хозяин» Ленинграда Григорий Романов не выполнил это желание музы блокадного города, и Ольгу Берггольц, ушедшую из жизни 13 ноября 1975 года, похоронили на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Друзья попросили, чтобы над гробом ленинградской Мадонны прозвучало «Ныне отпущаеши…», но власти и это запретили, сославшись на то, что Берггольц была коммунисткой…
Мария Фёдоровна
…Мария Федоровна дважды была замужем, от каждого мужа родился сын.
С писателем Юрием Либединским сестру познакомила Ольга. Свой роман «Рождение героя» Юрий Николаевич посвятил Мусе Берггольц.
Они прожили вместе 10 лет.
Сын Юрия и Марии Михаил (1931-2008) просто потрясающе похож на отца! К сожалению, я не сумела найти Мишиных фотографий ни у себя в архиве, ни в интернете. Но помню его очень хорошо. И стезёй своей он тоже избрал литературное творчество. Серьёзно и скрупулезно занимался восстановлением своего генеалогического древа.
Жил в Москве, периодически приезжая к матери в Санкт-Петербург.
Однажды он на пару дней приютил меня в своей московской квартире…
Второй муж Марии Фёдоровны – Владимир Дмитриевич Янчин (1912-1994). Сын Федя родился в 1950 году, стал актёром.
Есть у Марии Берггольц и внучка – Ольга Фёдоровна Янчина (1982 г.р).
После смерти сестры Мария Фёдоровна весь остаток своей жизни издавала Ольгины книги, бесконечно составляя сборники и подготавливая предисловия к ним, много выступала на радио, писала. О себе ничего. Ольга, Ольга, Ольга...
Сама жила в нищенских условиях, в неремонтированной десятилетиями квартире, где даже горячая вода была проблемой. Однако квартира – двухкомнатная, в Петроградском районе на Мытнинской набережной, в непосредственной близости с Пушкинской площадью – только Биржевой мост перейти…
В бытность моего знакомства с Марией Фёдоровной она занимала комнату справа от входа, и если пройти по довольно просторной прихожей, то слева располагалась Федина комната (туда я не заходила), а справа – кухня, где обычно проходили наши посиделки.
Разыскивая в сети дополнительную информацию по теме, я в нескольких местах наткнулась на высказывания, что мол, Мария Фёдоровна якобы спала на полу на каком-то тюфячке. Это неправда. С полной ответственностью свидетельствую, что кровать у неё была нормальная. Кроме того, она частенько отдыхала на кухонном диванчике, где и провела свои последние дни.
Забавно, что источником информации о тюфячке могла невольно стать я… Ибо кому-то рассказывала, как Мария Федоровна однажды в 2002-м году по случаю летнего отключения горячей воды приехала ко мне на Гражданский проспект в недавно купленную и ещё не обставленную мебелью квартиру помыться и осталась ночевать.
А поскольку прилечь там было не на что, кроме как на тюфячок на пол, её это не смутило. А кто-то из моих слушателей неправильно сынтерпретировал, вот и пошёл по интернету слух, что Мария Фёдоровна спала на полу…
И в заключение – вернусь опять к Ольгиной книге «Дневные звёзды», так похожей на дневниковые записи, ставшей главной книгой её жизни, размышлениями, воспоминаниями, выводами… Вперемежку со стихами…
Мне очень близок такой подход к литературе.
Очень близко стремление не только брать, но и отдавать, и даже больше, чем взял, – по принципу колодца: чем больше черпаешь из него, тем чище и лучше вода, тем её больше. Отдавать трансформированным в слова и поступки, идущие от сердца, от души…
И я очень ценю и берегу подарки Марии Фёдоровны – Ольгину вазочку, стеклянную, в форме подковы, с гравировкой, и две книги с дарственными надписями от самой Марии Фёдоровны. Горжусь этими надписями: «Моей Тане Громовой. Люби – пока любится!» (1999)
И: «Милой Татьяне – с её чудным внимательным взглядом, с её доверчивостью и щедростью: готовностью ко всему – к счастью, печали и радости, к работе и помощи – и всё от всего-то сердца! С сердечной симпатией к смелости её духа» (2000)
Она и сейчас стоит перед моим внутренним взором – худенькая, хрупкая, с несгибаемой волей, сделавшая всё для того, чтобы увековечить память о своей необыкновенной сестре. И сама – необыкновенная…
…Она умерла 8 августа 2003 года, не дожив около месяца до своего девяностадвухлетия… Это печальное известие я получила от её старшего сына, который был тогда в Санкт-Петербурге.
Москвич, Миша не знал, куда обратиться, чтобы была исполнена последняя воля матери – быть похороненной рядом с сестрой на Волковом кладбище. И я позвонила Семёну Ботвиннику. Он помог… Марию Федоровну похоронили на Литераторских мостках рядом с Ольгой Фёдоровной Берггольц.
«Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом, – говорит Ольга, – Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно…»
И закончить эти заметки хочу двумя своими короткими стихотворениями, посвящёнными Ольге Берггольц.
***
О господи, как глубоко и больно
Пронзают душу Ольгины стихи!
Берггольцевские образы невольно
Рождают отклик…
Как мы далеки по времени,
По духу – как близки!
О ЖЕЛАЕМОМ
Отдавать себя без размышлений,
Ничего не требуя взамен,
Отрешиться от пустых сомнений,
Не страшиться сплетен и измен,
Растворять обиды и страданья,
Искренне судьбу благодарить
За возможность новых испытаний
И – творить…
**







«Я всеми принят, изгнан отовсюду...» Перекличка, или Берггольциана










Pодилась в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального Сообщества писателей, ответственный секретарь Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы.