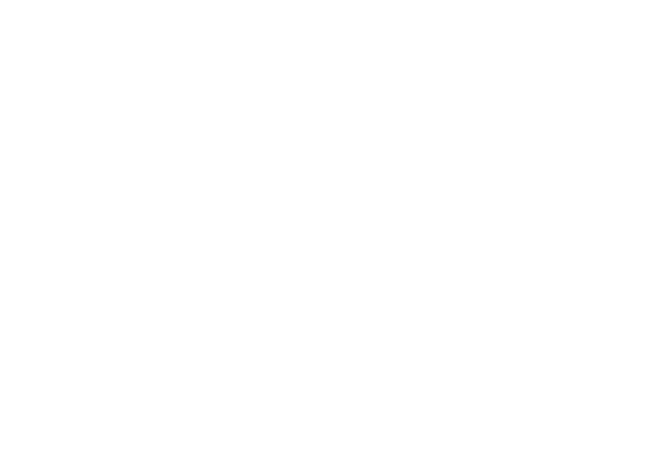Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Галина Сапожникова (Россия)
К читателю
«С журналистикой закончено, забудьте».
Это первое, что мне говорят, услышав про то, что я решила написать путеводитель по профессии. С одной стороны – абсолютная правда: и в голову не могло прийти, до каких стандартов нам придется докатиться в XXI веке. В XX-м со свободой слова было как-то попроще...
С другой, к выводу о том, что «все пропало» общество приходит не первый раз. И в начале прошлого века, перед Первой мировой войной, журналистика тоже была в кризисе, и в период репрессий, и перед Оттепелью, и даже во времена перестройки, когда из чрева дракона вырвалось ТАКОЕ, что настоящей журналистике и не снилось. Оставим в стороне эти пожелтевшие страницы методички по истории журналистики, скучнее предмета на наших профильных факультетах не было.
Итак. Я очень надеюсь, что мы не в конце пути, а всего лишь в очередном,временном кризисе. И, долетев до самого дна, мячик опять задорно и радостно отскочит вверх, а общество поймет, что без образованных, разумных профессионалов от журналистикинормальным ему не стать, и выход на арену миллионов даже самых грамотных блогеров проблемы не решит. Умение красиво складывать слова в строчки или желание по любому поводу высказаться журналистикой еще не являются.
Как, впрочем, и обучение на факультетах журналистики не гарантирует того, что человек обязательно станет журналистом – здесь я ни с кем спорить не буду. Факт поступления на специализированный факультет вовсе не является пропуском в профессию: из моих однокашников по Ленинградскому государственному университету, например, в профессии остались единицы, а громкое имя не сделал себе почти никто. Большинство, за редким исключением тех, кто после журфаков подался в киноиндустрию или психологию, так и остались «рабочими лошадками», кропающими типовые заметки на скучные темы.
Зачем тогда оно – скажите на милость? Зачем было идти в журналистику, если не за мечтой – бороться за справедливость, покорять моря, океаны и кабинеты обнаглевших чиновников,исколесить тысячи километров дорог, стать известным, успешным и узнаваемым журналистом?
Для тех, кто не видит себя в роли безымянного пасынка пера и клавиатуры и предназначен этот учебник. Читать его, надеюсь, будет интересно всем – как тем, кто только поглядывает в сторону журналистики, так и тем, кто, набив руку, намеревается оставить в ней свой след. Это не учебник даже, а скорее, растянутый на 200 страниц мастер-класс, коллекция авторских инструментов, способных огранить алмаз и заставить его сверкать.
Это первое.
Вторым будет вопрос, который мне пока еще никто не задавал, но который я жду с нетерпением: «Каждый из более-менее известных журналистов мечтает и может написать свою книгу». Ну так вперед! Я буду только рада, если и другие коллеги последуют моему примеру. У каждого из нас есть огромный опыт, негативный и позитивный, и множество индивидуальных хитростей, которые можно и нужно систематизировать. Чем я лучше других? Ничем, кроме количества профессиональных наград и званий («Заслуженный журналист РФ», «Золотое перо России», обладатель почетного знака Союза Журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и проч.), и многолетнего опыта как проведения собственных мастер-классов, так и руководства школами журналистики. И, что самое главное – жаждой и щедростью этим опытом делиться.
И наконец третье: все, о чем написано в этой книге, касается исключительно газеты «Комсомольская правда», в которой я отработала больше 30 лет и работать в которой мечтала с раннего детства. Здесь мой труд, моя любовь и моя родина, счастье, слезы, опыт и бесконечная благодарность людям, которые меня окружали, учили, помогали и ставили подножки на этом прекрасном пути длиною в целую жизнь. Пусть это будет мой подарок к столетию «Комсомолки».
ГЛАВА ПЕРВАЯ. САМОЕ ГЛАВНОЕ
Ты помнишь, как все начиналось?
Мне было три года, когда я научилась читать, пять – когда меня записали в библиотеку и двенадцать, когда вышел мой первый материал в газете. В настоящей. Республиканской.
Фраза банальна и больше годится для мемуаров, но без нее никак. Обещаю, что в этом архаичном стиле будет написана только одна страница – эта.
Первыми двумя фактами могут похвастаться многие, а вот последним – вряд ли. Откуда у девочки небогатых родителей в областном центре вдруг появилась мечта о профессии журналиста – непонятно. Но объяснимо: природное любопытство, небольшой рост (и потому осознанная цель не торчать под прилавком, а узнавать все первой, вместе с «большими»!) и довольно возрастные по меркам тех времен родители, которым категорически не хотелось путешествовать. Ну или просто в семье инженера и учительницы на путешествия не было денег.
Но у мамы был младший брат, Глеб Бабушкин, телеоператор программы «Время» - и когда он к нам приезжал, скучный мир с музыкальной школой и лыжами для меня заканчивался, потому что его затмевал мир иной – с романтикой дальних путешествий, фотографиями чумазых чукотских детей, фантастической природой и невероятными рассказами о городах и людях. И да, к тому времени я каким-то образом умудрилась прочитать произведения двух моих кумиров – журналистов-писателей: Юлиана Семенова и Эрнеста Хемингуэя и послушать песни-репортажи Юрия Визбора. Короче, мне надо было туда! В журналистику.
И с 10 примерно лет я, как муравьишка, начала карабкаться по дереву с этим названием. Сочиняла заметки, писала рассказы в стол, читала газеты и условия поступления на факультеты журналистики. Пыталась даже однажды написать совместно с писателем-фантастом Киром Булычевым повесть (от моего текста, увы, осталась только фамилия). Все складывалось в мозаику –фанатизм, с которым я полюбила эту профессию, остался со мной навсегда. И много раз помогал выжить – в безумных ночных перелетах, бессонных ночах, первых абзацах, которые никак не выписывались и разочарованиях в людях и ситуациях.
Узлы судьбы перезавязывались в моей истории много раз, и весьма затейливо. Ну вот подумайте сами – как это все могло совпасть: письмо ижевской школьницы, потенциальной абитуриентки в Тартуский (почему-то) университет, вежливый ответ из приемной комиссии, аргументированный тем, что обучение там ведется только на эстонском языке, и через несколько лет - распределение в Эстонию после Ленинградского Государственного Университета!?
Сочинение на вступительных экзаменах на тему «Моя любимая газета», посвященное «Комсомольской правде» - и 30 лет работы в штате «Комсомолки»!
Мучения на пороге выбора будущей профессии, кем стать – журналистом или следователем? – и глубочайшее погружение в расследовательскую журналистику?
Недавно, когда моей родной школе № 27 в городе Ижевске исполнилось 90 лет, я встретила одноклассников, некоторых не видела до этого несколько десятилетий. «Ну рассказывай, - потребовали они, - как ты жила все эти годы?»
«Интересно!» - ответила я, не задумываясь.
Интересная жизнь – это, пожалуй, единственный и главный бонус, который вам дарит журналистика. А кто сказал, что это – не самое главное?
Краткий курс истории журналистики
Настаиваю: мы, журналисты, пережившие миллениум, видели все!
Все в смысле технологий, которые кардинально изменили профессию. Именно в нашу журналистскую жизнь пришли компьютеры, соцсети и стримы. Фиксирую исключительно для следующих поколений, чтобы они не запутались в «лейках» и «военных проводах», как в свое время путались мы.*
Итак, как мы работали после наших университетов?
Диктофонов не было, поэтому все интервью записывались от руки в блокноты. Интернета не было тоже – поэтому к беседам с героями готовились в библиотеках. Писали от руки черновики, потом перепечатывали на машинках. Если ошибались – замазывали букву белой замазкой, сушили и впечатывали поверх нее другую, правильную.
Материалы из командировок диктовали по телефону телефонисткам: «Точка, восклик, абзац». Иногда разговор обрывался и ты только минут через 40 обнаруживал, что все это время диктовал текст в пустоту. И, вздохнув, начинал диктовать с начала…
Потом появились первые, громоздкие диктофоны. Если техника подводила и пленка вдруг оказывалась пустой, приходилось напрягаться и вспоминать интервью по памяти.
Фотографии передавали с поездами. Ладно если со знакомыми пассажирами – но ведь донести конверт до редакции за так, из уважения к журналистике, соглашались совершенно незнакомые люди! Таков был авторитет профессии в обществе.
Технический прогресс, впрочем, не дремал. И однажды в моем таллинском коррпункте установили телетайп – огромную тумбу, которая время от времени включалась сама по себе и начинала отстукивать и передавать информацию неизвестно куда. Эстонцы, которые приходили ко мне в гости, страшно пугались. Я важно заверяла, что депеша уходит напрямую в Кремль. Мне верили…
Чтобы передать текст в редакцию, сначала надо было его набить на перфоленте – из тумбы выползала длинная белая змея со множеством дырочек. Потом ее надо было вставить в какие-то рельсики, и тогда телетайп начинал бодро сотрясать всю квартиру, изрыгая из себя на другом конце провода, в Москве, готовый текст. Как-то в начале 90-х мне позвонил коллега с этажа и попросил написать небольшой материал о собирательном образе эстонского народного депутата. Дело происходило сразу после развала СССР, все было необычно и ново. Написать надо было следующее: во что депутат одевается, какие галстуки носит, что читает, что заказывает в столовой.
Я бодро приступила к делу и написала текст. В качестве блюда выбрала национальное кушание - «мульги капсад», переписав рецепт из кулинарной книги. На самом деле это блюдо имеет массу поклонников и я его сама с удовольствием поедаю раз в год, на Рождество. Но в печатном виде это читается, конечно, не очень: квашеную капусту тушить со свиным жиром и перловкой и запивать стаканом кефира… Ну вот как-то так. Телетайп, отстукивая, начал передачу. И тут мне кто-то позвонил на домашний телефон (мобильных еще не было). Телетайп, соответственно, замер, потому как был привязан к телефонной линии. Только кладу трубку – сразу же звонок из Москвы, с осторожным вопросом: «Галя, ты как себя чувствуешь?» «Нормально», – отвечаю, не чувствуя подвоха. «Да? - удивленно выдохнули в редакции. – А мы думали, что тебя стошнило».
Оказалось, там, на выходе, текст застрял точно после рецепта…
Потом на смену этим капризным ящикам пришли компьютеры. Мастер с Центрального Телеграфа, которого я вызвала забирать телетайп, долго меня уговаривал не спешить: «Еще пожалеете!»
Что было дальше, вы знаете: компьютеры, сканеры, интернет, мобильные телефоны, соцсети, стримы и бесценные архивы в электронном виде, которых можно лишиться одним неверным нажатием пальчика на клавиатуре. Журналистика теперь, конечно, совсем другая. Но классических технологий никто не отменял.
Нужно ли журналисту вести дневники? Или «Мы, Николай Второй»
Обязательно! Но я поступила с точностью до наоборот.
Более опытные коллеги говорили мне: ты живешь в переломное время (развал СССР, независимость Эстонии, образование новых государств), все записывай – пригодится.
Последнее весьма сомнительно, мемуаристика все же – не совсем журналистика, а несколько другой жанр. Хотя я знаю нескольких прекрасных журналистов, которые обеспечили себе старость исключительно благодаря своим дневникам.
Но я не записывала. Причин было несколько. А) Усталость. Жизнь неслась с такой невероятной скоростью, что, набегавшись по интервью и митингам и надиктовав заметки в Москву, даже думать о том, чтоб записать события еще и в дневник, сил не оставалось.
Б) Природная скрытность. Я, видимо, что-то нехорошее предчувствовала уже тогда – и очень не хотела, чтобы этот документ попал в руки спецслужб. И много раз потом с благодарностью вспоминала ту свою молодую лень. Пусть то, что было, останется со мной, и только со мной...
В) Самоуверенность. Почему-то я была убеждена, что моя память мне никогда не изменит и все сохранит. А память изменила – и ковид тут не при чем.Просто профессиональная жизнь оказалась настолько богатой на события, что стерла до дыр все важные воспоминания. Не дотла, конечно, стерла – они где-то там еще лежат под обломками памяти, и не исключено, что когда-нибудь найдутся целыми и невредимыми.
Скажу вам более – я и сейчас ничего не записываю. Скорее всего, просто не хочу, чтобы свидетельства предательств и переобуваний в воздухе, которые я последние несколько лет наблюдаю у многих своих знакомых, остались в истории. Это неправильно, особенно на фоне того, с какой легкостью сейчас замазывают правду и рассказывают небылицы о том времени,в котором мы жили и живем.
У всей этой печальной истории есть, впрочем, и один плюсик: спустя время память сама отфильтровывает все лишнее и поднимает на поверхность только самое ценное, не позволяя утонуть в информационном мусоре.
Но если бы пришлось начинать все сначала – я бы все-таки поступилаиначе.
А при чем тут, собственно, Николай Второй?
При том, что он-то как раз вел дневники и записывал, например, сколько ворон в день убил, гуляя по парку. Факт, который меня потряс: дело это было в 1917 (!) году. У него страна рушилась – а он ходил по парку и стрелял ворон. И если бы сам не зафиксировал это в истории – об этом бы никто и не узнал. Делайте выводы.
Девушкам, обдумывающим житье
Почему только девушкам?
Потому что прямо пропорционально падению престижа профессии журналиста мальчики из нее дружно испарились.
Я их еще застала, этих прекрасных мальчиков, которые создавали честь и славу нашей профессии – и на факультете журналистики их было больше половины, и в газете. Они покоряли Северный полюс, сплавлялись по рекам и морям и рисковали под пулями на передовой. Их осталось немного, я почти всех знаю поименно. Остальные ушли в политологи…
Причин тут несколько. С одной стороны, мужчины пересели на более денежные места – что вполне разумно. С другой – женщины догнали их на поворотах и даже кое в чем преуспели. Не скрою – мне доставляло особенное удовольствие то, когдаколлеги-мужчины смущенно признавались: «Мы бы так, как ты, Галь, не смогли»…
Журналисток в кино изображают карикатурно. Либо эдакими капризными и глупыми фифами с нереальными запросами, либо, наоборот, полную им противоположность – в виде прокуренных изношенных старых кляч с немытыми волосами. Бывают примеры из области фантастики – я, например, нашла в одной из публикаций, пассаж о том, что будто бы именно я (горжусь!) стала прототипом журналистки из фильма «Жесть», которую сыграла Алёна Бабенко. Что ж, не буду скрывать – это мне польстило: героиня жила в роскошном пентхаусе и гонялась за маньяками.
Про маньяков-то, допустим, почти правда – о них мы будем говорить много. Но вот насчет всего остального…
Обратная сторона медали успешной журналистки – несчастливая личная жизнь. И о этом надо помнить, выбирая профессию. Казалось бы: ну как так-то – профессия позволяет познакомиться с таким количеством невероятных, интереснейших мужчин? А ты их не замечаешь, потому что бежишь… Потому что на каждого интересного где-то там, впереди, находится еще более интересный. Потому что тебе некогда оглядываться назад. И жизнь с борщами и пеленками на фоне пожизненного впрыска адреналина кажется тебе скучной.
Выход есть, и я знаю, какой. И может быть в следующей книжке, которая будет посвящена профессиональному выгоранию, напишу об этом подробнее. Но пока кратко: две звезды в одном корыте не уживаются. Тем более – две звезды журналистики. Кого ищет в спутники жизни женщина-журналист? Яркую, неординарную, состоявшуюся личность, которому (увы) нужна совсем другая жена. Иными словами: либо ты танцуешь вокруг своего мужчины и обеспечиваешь ему карьеру. Либо танцует твой мужчина, освобождая тебя от рутины.
К счастью, мне хватило и ума, чтобы вовремя это понять, и жизни, чтобыиспробовать. Наверное, останься я одна,написанных книжек в моей одинокой жизни было бы больше, и конкретно эта книга вышла бы гораздо раньше. Но она точно не была бы такой веселой. А может быть не было бы ни книжки, ни жизни: после того, как меня депортировали из Литвы, что закончилось серьезным гипертоническим кризом, из болезни меня вытащил именно мой муж Виктор. И я четко поняла, поедая кашку с ложечки, что фраза «За каждым великим мужчиной стоит женщина» не имеет гендерной принадлежности. За каждым успешным человеком стоит еще один человек, который жертвует собой ради твоего успеха.
Кому нельзя идти в журналисты?
– Молчунам и интровертам. То есть, мне.
Те, кто меня знают лично, такому признанию, конечно, подивятся. Но это – неоспоримый факт: чукча (то есть, я) в детстве больше всего любила читать, а не писать.
Наблюдать за жизнью издалека и мечтать – вот что мне было дано от природы.
Для журналистики требуется кое-что еще. Эрудированность, допустим, дает школьное и университетское образование. Умение складывать слова в предложения и расставлять запятые – количество прочитанных книжек. Слог (или ритмику текста) дарит музыкальный слух. Для кого-то, возможно, существует проблема первого абзаца, а для меня главный вопрос всегда был другим: как поймать музыкальный ритм, в котором напишется текст? Зато когда мне наконец удавалось его словить – все писалось так, как будто текст кто-то диктовал сверху.
Но вообще-то речь сейчас не об этом. О психологической предрасположенности к профессии. Или ее отсутствию.
Главная проблема для меня, с которой я за жизнь так и не смогла справиться – это кому-либо позвонить. За гипнотизированием телефона я и сейчас могу провести несколько часов. Как и за тем, чтобы подойти к незнакомому человеку на улице. А сколько телефонных аппаратов за свой век я разбила! Вот вам, например, бывало стыдно перед разбитыми телефонами? А мне – да… Это лечится: во-первых, психологическими практиками. А во-вторых, опытом. Со временем я научилась использовать этот свой комплекс в свою пользу (об этом в главе «Когда нам можно плакать»?).
– Высокомерным выскочкам. К счастью, они в профессии не задерживаются и сразу же уходят в политологи.
– Природным злюкам, не испытывающим эмпатии. Пусть лучше журналист будет лошариком, поверившим первому встречному – но только не бесчувственным чурбаном, который не доверяет всем и вся.
– Несостоявшимся писателям, понадеявшимся на то, что журналистика сокращает путь в большую литературу. Запомните: это разные профессии. И далеко не каждый журналист мечтает, как это принято считать, написать свою собственную художественную книгу. Захочет – напишет.
– Тем, кто надеется на журналистике заработать и обеспечить себе беспечную старость.
Бывают в истории периоды, когда общество вдруг поворачивается к журналистам лицом и они случайным образом начинают обогащаться и получать гранты и премии. Увы, эта любовь не взаимна и не безоблачна: там, где начинаются деньги, заканчивается честная журналистика. И талантливая тоже: это давно проверено – талант стремительно улетучивается прямо пропорционально денежным поступлениям.
– Лентяям, которые не могут представить себе бессонную ночь в поисках стиля. Не верьте тем людям, которые врут, что способны написать гениальный материал за полчаса. Так не бывает. Просто поверьте, и все.
– А еще трусам: не попасть, будучи журналистом, в какую-нибудь переделку – будь то выслеживание маньяка или бегство от преследования, очень сложно.
Кому же тогда, спрашивается, туда идти? И главное – есть ли смысл?
Есть. И это вовсе не возможность самовыражения, не деньги и не слава. Что же тогда?
Путешествия. Уникальная возможность увидеть мир во всей красе. Люди. Эмоции. «Запомни, Галина, – говорил мне при встрече легенда «Комсомолки» Василий Михайлович Песков. –Самое интересное в жизни – это сама жизнь!». И повторял это почему-то каждый раз, когда меня видел.
Вы все еще хотите стать адептом нашей секты? Тогда вперед!
Вынос: Кому нельзя идти в журналисты?
Молчунам и интровертам
Высокомерным выскочкам
Природным злюкам
Несостоявшимся писателям
Тем, кто надеется на журналистике заработать
Лентяям
Трусам
ГЛАВА ВТОРАЯ. Теория жанров
Очень коротко, для начинающих: давайте вспомним, о чем нам давно и скучно рассказали на факультетах журналистики? О том, какиебывают жанры. Итак:
«Информация» – это тот абзац, который вы выставляете на своих страничках в соцсетях, когда хотите отметиться перед миром, что вы еще живы.
«Зарисовка» – более длинный и красивый отчет с фотографиями и подробностями – например, о романтическом путешествии.
«Заметка» давно уже перестала быть жанром. В «Комсомолке» «заметками» называют абсолютно все материалы. Эта традиция родилась раньше, чем я пришла в «КП», потому историю ее происхождения я не знаю. Скорее всего, это применялось для того, чтобы сбить с репортера спесь и нивелировать значимость его интеллектуального труда.
Слово «Материал» из лексикона современного журналиста почти ушло. Согласитесь, фраза: «Работаю над материалом» в нынешние времена звучит несколько пафосно, а сочинять тесты (так считается) с приходом в жизнь соцсетей умеют все.
То же самое с понятием «Очерк» – звучит старомодно и припыленно. По-современному это «Лонгрид» – то есть, чтиво для избранных. Жанр, подвластный немногим.
Про «Аналитический отчет» можно смело забыть – его за вас прекрасно и быстро сваяет Искусственный Интеллект. Или совершенно бесплатно сделают многочисленные «диванные эксперты» (вчера космонавты – сегодня анестезиологи – завтра ветеринары – Г.С.) на просторах запрещенного ныне Фейсбука.
Про «Расследования» – самый интеллектуальный жанр, вершину профессионализма журналиста – я расскажу отдельно, для общего сведения и про запас, на далекое будущее, поскольку в ближайшее время заниматься ей нам не светит.Все, кто ей серьезно увлеклись, начиная с Джулиана Ассанжа, уже убиты или сидят в тюрьмах. Дождемся рассвета.
Что нам осталось? Репортаж и основа основ журналистики: Интервью.
На этом и остановимся.
Его величество репортаж
Если честно – самый важный, но лично мной самый нелюбимый жанр, потому что он требует скорости. Думать времени не остается – надо действовать, грубо, нахраписто, запихивать в голову информацию, не пережевывая. А потом на коленках вбивать эти факты в текст и передавать в редакцию, чтобы успеть в номер или опередить конкурентов.
С другой стороны, для журналиста это самый важный опыт, потому что репортаж – наиболее читаемый жанр. Ведь что хочет читатель? Подробностей – не непроверенную информацию случайного свидетеля, и не конспирологическую версию какого-нибудь неопытного блогера, а правду. Правда – у журналиста. Вернее будет сказать так: концентрация правды в тексте профессионального журналиста будет несравнимо выше, чем у любителя, потому что как бы там ни было, в голову репортера намертво вбиты три важных правила: «Факт свят – комментарий свободен», «Должно быть минимум два мнения, а лучше три», «В любом конфликте виноваты двое, потому опросить обязательно следует противоположные стороны». И мы им все-таки следуем на уровне инстинкта, как повара, которые знают, что для теста нужны мука, яйца и вода.
Главное в репортаже – деталь. Любая: запахи и звуки, краски, настроение, ветер, который гоняет по асфальту мусор, рев моря или крик птиц – все это в конечном итоге и сделает вам погоду.
Репортаж – это маленький рассказ, только на документальной основе, потому у него должна быть композиция: завязка, кульминация, финал (желательно на высокой моральной ноте). Как люди умудряются это сделать, причем быстро – для меня загадка. Но ведь делают же!
Неважно, о чем репортаж – как у любой истории, в нем должен быть герой – не обязательно одушевленный: человек, собака, памятник.
Лучше научиться сразу думать вперед и набирать сюжетов и деталей на день вперед: редко кого из журналистов отправляют в командировку ради одного текста, чаще – ради репортажной серии. Поэтому, приехав на место и измерив «температуру по больнице», не нужно вываливать весь собранный материал в первые же сутки: может случиться, что завтра и послезавтра вам так не повезет и передавать будет нечего.
Те, кто правилом экономии фактов пренебрегают, нередко совершают ошибку, с точки зрения журналистики – страшную: они начинают сочинять то, чего не было. Соблазн велик: редактор подгоняет, читатель ждет развития и новых душещипательных историй (особенно в том случае, если речь идет о репортажах с катастроф или терактов), а в запасе у репортера больше ничего нет…. Это опасный путь. Как его избежать? Легко: собирая материал для репортажа сегодняшнего, прикидывать, что ты передашь в газету завтра.
Это трудно. Это очень трудно – особенно если командировка предполагает разницу во времени и длинный перелет – как, например, у меня было в 2011 году в Нью-Йорке, откуда следовало передать серию репортажей о возведении Мемориала 9/11 в память о погибших 11 сентября 2001 года. То есть: днем ты, забыв про джетлаг, носишься по городу и цепляешь истории для репортажа, который надо передать в номер, параллельно договариваешься о завтрашних встречах, непонятно где и как на коленке пишешь сам текст, потом еще выходишь в эфир на радио, ночью перегоняешь на сайт фото и видео, спишь пару-тройку часов и все по новой…
Выдержать это почти невозможно. И представьте: параллельно с тобой в точке работают несколько бригад телевизионщиков, где твою работу делают 3 или 4 человека, и ты их тихо ненавидишь, наблюдая, как чистенький и хорошо отдохнувший корреспондент повторяет хорошо поставленным голосом вопросы, которые ему в ухо диктует редактор. Оператор снимает его на видео, за поворотом ждет водитель на арендованной машине, а продюсер в это время договаривается о следующих встречах. И если он пытается еще и выцедить информацию у тебя и выпросить телефон героев твоего эксклюзивного сюжета – ты можешь его смело укусить. И будешь прав! Если и существует на свете профессиональная солидарность, то она в этот момент умирает…
Плюс в таком ритме репортажной работы только один: ты чувствуешь себя всесильным… В изобретенной в «КП» концепции «универсального журналиста», способного работать во всех форматах, все-таки есть смысл. После «Комсомолки» не страшно работать абсолютно нигде…
Как со всем этим бороться? Готовить «консервы» – то есть, приезжая на событие, откуда редакция ждет целую серию эксклюзивных репортажей, заранее распланировать, что, когда и сколько передавать.
Впрочем, иногда концепция заготовленной заранее «консервы» дает сбой – как, например, случилось у меня в 2016 году в Лондоне. Все было предсказано заранее (что Великобритания из Евросоюза совершенно точно не выйдет), последний день командировки расписан по минутам, «рыба» текста написана. План был таков: встать в 4 утра (в Москве уже было бы 7-00), обновить текст свежими данными после подсчета голосов, потом метнуться на электричку в Лондон (я жила у знакомых в пригороде), торжественно позавтракать с победителями плебесцита, добавить пару-тройку красивых деталей и отправить в Москву финальный текст, потом три раза выйти в эфир на радио и успеть на электричку в Оксфорд, где тебя ждут друзья и где можно хотя бы на полдня предаться релаксу и нюхать магнолии. Долгожданный день отдыха. Ура!
…А утром выяснилось, что с разницей в несколько процентов победила партия сторонников выхода Британии из ЕС. Мой текст пропал, не родившись...
И дальше был кошмарный кошмар и ужасный ужас. Оставляю чемодан в камере хранения на вокзале. Никто из моих источников и спикеров не отвечают: либо все в шоке, либо напились и отсыпаются, либо просто не хотят говорить.
Еду в центр, на улицу Пикадилли, сажусь в кафе и начинаю сочинять новый текст. Компьютер садится. Зарядка-то у меня с собой, да вилка не подходит к выключателю, а адаптер успешно забыт в камере хранения. Бегу по индийским лавкам искать новый. Возвращаюсь – теперь занято место в кафе. Перебегаю в следующее. Оно оказывается дорогим итальянским рестораном. Приходится заказывать за какие-то немыслимые деньги пасту, иначе выгонят. Жую и параллельно пишу материал. Всеэто время надрывается телефон – это требует выйти в прямой эфир радио «КП». Выскакиваю на улицу, чтобы прокричать российским слушателям какие-то слова. Потом еще раз. И еще. Что я там говорю в прямой эфир – даже не обсуждается. Не помню. Возвращаюсь в кафе. Меня не выгоняют, но я ухожу оттуда сама. Иначе, судя по лицам, скоро отравят…
…Урок здесь может быть только один: вариантов развития ситуации в кармане у журналиста должно быть несколько.Как и вариантов заметок в номер. Причем всегда.
Нужно ли готовиться к интервью?
Можно стать прекрасным журналистом и сидя дома, обходясь без репортажей и командировок. Но есть жанр, без которого и журналист невозможен, и журналистика: это интервью.
Однажды, на заре моей юности, а именно на студенческой практике в «КП», ябуквально остолбенела, услышав от корреспондента серьезного новостного агентства фразу: «Я не готов сейчас к интервью и специально приеду завтра». Столько лет прошло, а я до сих пор думаю – прав он был или не прав?
«Он же профи! То есть, в любой момент может сложить узор из вопросов!» - внутренне возмущалась «Я – студентка».
«Зачем приезжать еще раз, если можно записать ответы прямо сейчас?» - вторил ей «Я – человек».
А «Я – профессионал» думаю сейчас совершенно иначе.
Видите ли, есть на свете интервью-жанр и интервью-метод. И называются они одним словом. Интервью с маленькой буквы мы берем каждый раз, когда общаемся с носителем информации, а Интервью с большой – это отдельное направление в журналистике, у которого есть свои законы. Некоторые выдающиеся интервьюеры даже выпустили об этом книги – я имею в виду не скучные сборники устаревших бесед на когда-то актуальные темы. А интервью, в которых есть драматургия: с прологом, эпилогом и обязательными провокационным вопросами, которые нужно продумать заранее. О некоторых примерах провальных и, наоборот, исключительных интервью из моей журналистской практики я сейчас и расскажу.
«Именем Михаила Николаевича Саакашвили…»
Перспектива взять интервью у Вахтанга Кикабидзе свалилось на меня совершенно неожиданно.
Август 2008 года, Грузия и Россия только-только выдохнули после пятидневной войны, Кикабидзе громко отказался от российского ордена Дружбы и о встрече с ним договаривался совсем другой мой коллега, которого внезапноотправили в Африку.
В общем, примерно часов в шесть вечера мне объявили, что рано утром вылетаю в Батуми.
Времени на сборы – почти ноль, перед сном закачиваю в компьютер максимальное количество материалов по теме, чтобы почитать в самолете. А в самолетезасыпаю сном младенца.
Ладно, думаю – в любом случае прилетаю я вечером, интервью наверняка будет назначено на следующее утро, а за ночь как-нибудь сориентируюсь.
И тут…
Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны аккурат во время моего перелета и ваэропорту славного города Батуми нас ждала картина «Не ждали» в исполнении грузинских пограничников. Выбор был невелик: уплатить штраф и немедленно улетать тем же рейсом в Москву или на свой страх и риск оставаться в Грузии.
Начинаю лихорадочно соображать: что я получаю, если улечу обратно?Зря потерянное время. А если останусь? По крайней мере, репортаж о ночи, проведенной в аэропорту после разрыва дипотношений. Материала будет предостаточно: я на рейсе была такая не одна – несколько грузинок с российскими паспортами так громко орали на пограничников, что заглушали голос диктора, который объявлял о вылетах и посадках. Чувствовалось, что сюжетов для статьи будет море. Решено!
– Эээ…А где вы будете спать? – удивились моему решению пограничники.
– Здесь (показываю на транспортерную ленту).
– А умываться где?
– Там (показываю на туалет).
– А что будете кушать?
– То, что вы принесете: сациви, хачапури, чкмерули (вспоминаю на ходу все, что помню из грузинской кухни).
Вижу: аккуратно записывают… Неужели и в самом деле принесут?
А если нет?
Да чего я теряю? – думаю. Позвоню напрямую «виновнику» события, самому Кикабидзе. В гости звал? Звал. Меня не пускают? Не пускают. Вот пусть теперь сам с этим и разбирается.
Лучше бы я этого не делала… Вскоре аэропорт Батуми был полностью парализован. Потому что туда приехал батоно Вахтанг Константинович Кикабидзе.
Следующей сценой был миг моего персонального журналистского позора. Потому что Кикабидзе сел напротив меня в комнатке замначальника заставы и сказал: ну давай, спрашивай.
А Я К ИНТЕРВЬЮ НЕ ГОТОВА!!!
То есть, не так: любой опытный журналист сходу может провести интервью, построенное на банальностях. Но мне-то нужен эксклюзив! Его на вопросах о творческих планах не вытянешь! То есть, нужно было: а) изучить опыт коллег-предшественников, б) составить психологический портрет собеседника, в) заготовить блоки вопросов, г) придумать ходы, которые сделали бы материал по-настоящему авторским. А я вместо того, чтоб подготовиться, блаженно отсыпалась у окна в самолете…
Кикабидзе, кажется, начинает понимает, что я плыву. Этот шанс у нас может быть последним: сейчас он встанет и уйдет, а я останусь печально плескаться в море своего профессионального позора и улечу домой ни с чем.
Спасение приходит неожиданно. Дверь кабинета резко распахнулась и на пороге возник начальник погранотряда с каким-то свитком в руках и, глядя на меня, торжественно провозгласил: «Именем Михаила Николаевича Саакашвили (я похолодела, конечно – Г.С.)… вам разрешено остаться в Грузии на 90 дней!» Вах!
После чего мы с Кикабидзе раскланиваемся и договариваемся встретиться не следующий день.
Все получилось, в итоге: за ночь я основательно подготовилась, Вахтанг Константинович вызвал телеоператора, «дабы московские редакторы не переиначили его слова» и это интервью долго еще показывали по Аджарскому телевидению, которое в то лето транслировали чуть ли не по всему миру. Эксклюзива там было даже больше, чем нужно – все человек рассказал: и про то, что герой фильма «Мимино» в пятидневной войне стал бы вертолетчиком и полетел бомбить Цхинвал, и что, говоря, «С Россией надо покончить», он имел в виду, что Грузии надо отойти от России и вступить в НАТО, их просто перевели неправильно. И про то, что стрелять – это очень легко. И умирать очень легко. А вот жить трудно.
При сокращении текста вылетел важный абзац, о котором я до сих пор жалею. Разговариваем о том, что Вахтанг Константинович пишет мемуары.
«Как жаль, что я не знаю грузинского и не смогу их прочитать», - театрально вздыхаю я.
«Почему не сможете? Я же их по-русски пишу. Я по-грузински не умею», – простодушно признается он.
…То ли смеяться, как говориться, то ли плакать. А лучше все вместе.
Парадоксальность мышления – в журналистике и в науке
Мой хороший коллега по «КП» Павел Садков составил классификацию журналистов, которые берут интервью (нахал, пофигист, забияка, фанат, охотник, человек-диктофон), и самих интервьюируемых (болтун, молчун, пустозвон, мудрец, весельчак, дурак, человек-книга). Весьма точные наблюдения, но я бы кое-что добавила. Список интервьюеров должен возглавить типаж «Студентка» (вариант: «Блондинка»), а в список интервьюируемых надо непременно добавить человека по прозвищу «Наше все!» Я имею в виду знаменитого оружейника Михаила Калашникова.
Потрясающий, конечно, он был человек – беда в том, что он СТОЛЬКО раз давал интервью, что все последние годы говорил абсолютно одно и то же. До знаков препинания и соединительных гласных! Чтобы сделать из беседы с ним эксклюзив, надо было придумывать нечто особенное.
Мне в этом плане, конечно, повезло больше других, потому что он жил и творил в родном городе моего детства – в Ижевске. Это открывало совсем другие возможности. Можно было не изображать из себястоличную штучку, а превратиться на время интервью в эдакую ижевскую школьницу из кружка юного журналиста при городском пионерском штабе и задавать девчачьи вопросы, которых ему никто не задавал. В первый раз (это, кажется, был год 1995-й) я обескуражила его вопросом про цвет глаз, необычно голубой, как зимнее небо. И обнаружила за маской прославленного Героя СССР трогательного и смущенного юношу. Потом, перед каким-то из следующих его юбилеев, выспросила у него рецепт засолки огурцов, который теперь путешествует по всему интернету именно с моей подачи.
Впрочем, зачем я цитирую сама себя? Лучше, чем когда-то было написано, уже не напишешь:
«Увы, Интернета в начале девяностых не было, потому мое первое интервью с Михаилом Калашниковым кануло в вечность…
Это не страшно – на вопросы журналистов он уже тогда отвечал по накатанной схеме, среди тех, кто ездил к нему за интервью по нескольку раз, даже была шутка – встречаться-де больше не обязательно, теперь сможем написать за него ответы сами…
Но даже при том, что его ответы на свои вопросы ты знал наизусть, каждая встреча с ним была необыкновенной.
Первая. Ему всего 75 – молодой парень со смеющимися ярко-голубыми глазами, нереальный живчик ростом метр шестьдесят с кепкой. Мужчины-журналисты потом долго надо мной потешались: нашла о чем писать – о голубых глазах! А мне казалось, что это как раз правильнее: о том, как Михаил Калашников в 21 год изобрел свой знаменитый автомат, уже писано-переписано. А о том, какой он человек – нет. Так какой? Очень сложный. Очень правильный. Очень молодой и очень старый. Напросилась к нему в тогдашний в мини-музей – небольшую комнатку на каких-то городских задворках – не то, что сейчас, когда целый калашниковский музей с памятником, открытым при жизни, стал городской достопримечательностью.
Комната густо уставлена подарками – радиола, кубки, вазочка с логотипом «Комсомолки». А на дворе 1994 год, мой родной Ижевск занимает первое место на Урале по безработице, оборонные заводы стоят, город в депрессии, родственники, приглашая в гости, могут выставить на стол только соленые огурцы и вареную картошку. Добавьте к этому разбитые дороги, бандитов в спортивных штанах, комиссионные магазины с бутылками «Амаретто» и спиртом «Рояль» и успех в жизни, измеряемый видеомагнитофонами и китайскими пуховиками.
Тогда очень популярны были такие разговоры: вот жил бы Калашников в Америке и получал хоть по 5 центов с каждого своего автомата – наверняка был бы миллиардером, а в ЭТОЙ стране он якобы голодает и у него абсолютно ничего нет…
Как же он от этого раздражался! Как сейчас помню – подвел меня к стенду, на котором была прицеплена поздравительная телеграмма от Брежнева, и сказал: «Вот мое главное богатство! И никаких других мне не надо!» Дело не в Брежневе, конечно (хотя однажды он не пустил к себе в гости комика Геннадия Хазанова – за то, что тот пародировал Брежнева – Г.С.) – а в признании ее заслуг государством, что для Михаила Тимофеевича и было главной жизненной ценностью. Тогда это казалось удивительным - ведь все, что угодно мог себе попросить человек! Все-таки прав был Маркс: бытие определяет сознание. В сознании наших дезориентированных морально сограждан образца 90-х телеграмма от Брежнева никак не могла конкурировать с магнитофоном китайской сборки… А он рассуждал так: квартира есть? Есть. Машина есть? Тоже. На жизнь хватит. Вот чего точно он не терпел – это когда кто-то пользовался его именем или старался на нем заработать.
Развал страны Калашников переживал страшно тяжело. Говорил в интервью: «Неприятно, что мое оружие используется в межнациональных конфликтах. Я его не для этого создавал. Надо защищать рубежи отечества, а не вести национальные разборки. Тут виноваты политики. Вы думаете, мне было приятно видеть, как из танка – я на фронте таким же командовал! – стреляли по «Белому дому»? Я сам чуть не выстрелил в этот японский телевизор. Я не мог себе представить, что такое может быть. Однако же стреляли… Но я вам скажу: я все-таки верю, что Россия встанет твердо на ноги, займет свое подобающее место». Все так и вышло.
Вторая встреча была на следующий юбилей, через пять лет. Нет, мы иногда виделись и в перерывах – но у Михаила Тимофеевича была странная особенность – он не запоминал лица. Исторические даты помнил, книги, стихи – а вот людей забывал, поэтому каждый раз с ним приходилось знакомиться заново. Но, судя по тому, что разрешил зайти к нему в гости – ту, первую публикацию про голубые глаза, он все-таки запомнил…
О! Это была встреча с нереальной, казарменной, патологической чистотой! Ну правда – такого порядка я не встречала и в домах у немецких фрау – а ведь человек жил один и к тому моменту ему было 80! Ни электрика, ни сантехника никогда не приглашал – все сам: «Я, если муха появляется в квартире – объявляю чрезвычайное положение. Пока не уничтожу – не успокоюсь!» Но главной его фишкой, конечно, были огурцы. «Я каждый огурчик на корешок укладываю, как патроны!» – поучал он. Они и правда стояли в банке плечом к плечу, как стойкие оловянные солдатики, одинакового до миллиметра размера. Странно: при всем масштабе его личности о Калашникове все время хотелось говорить в умилительном ключе – и что в свои преклонные годы он сам садится за руль, ездит на охоту и водочку пьет, и подшучивает по поводу того, что весь мир думает, что он уже давно умер…
Почему? Объясню: он, с одной стороны, был великим, а с другой – трогательным в своей старости и беззащитности. Читал свои стихи про танки. При абсолютном отсутствии слуха мог спеть песню про артиллеристов узнаваемым скрипучим голосом. Вздыхал, когда просили автограф – раненая когда-то рука могла выводить только каракули. Мог разозлиться и не дать разрешения печатать про себя книжку, даже если ее написал друг, который прошел с ним всю жизнь – если его не устраивала хотя бы строчка. Перфекционизм полезен для общества, но тяжел для близких. Он не был одинок – две дочери, сын, внуки – а тоска по рано ушедшей любимой жене и безвременно погибшей дочке Наташе выгрызала его сердце так, что все остальное казалось неважным.
«Говорят, все на свете устроено справедливо, и если Бог дает человеку талант, то обязательно ущемит в чем-то другом. А если дарует идеальную семью и любовь, то делает его рядовым дворником», - осторожно сказала я ему. Он ответил скупо и без эмоций: «Со мной он поступил так же», - но чувствовалось, что тоже думал об этом всю жизнь.
Третья встреча была последней. Самой непродуктивной – потому что он заупрямился и отказался говорить. Почему? Не поверите: ему тогда ремонтировали зубы и он в свои 85 лет хотел предстать перед молодой относительно его лет дамой на коне и в силе. Так и просидел все полчаса, прикрывая рот и мыча из под ладони, как я его ни уговаривала... Велел вместо этого идти изучать его творческую лабораторию. Делать было нечего, я пошла. В принципе, это и было интереснее всего – понять природу человеческого гения. Ну как, скажите на милость, возможно, чтобы парень из бедной крестьянской семьи, который в школе изобретал вечный двигатель и сумел убедить в том, что он прав, даже своего учителя физики, имея всего 9 классов образования, изобрел оружие, признанное лучшим в мире? Как работает голова человека, который, по свидетельству друзей, постоянно чего-то изобретал – то устройство для автоматического переворачивания шашлыков, то вилку для запекания бараньего бока… Что отличает гения от талантливого специалиста?
«Парадоксальность мышления» – ответили мне тогда его младшие коллеги из конструкторско-оружейного центра производственного объединения «Ижмаш» (Ныне – концерн «Калашников» – Г.С.). Два начальника конструкторских бюро, Валерий Паранин и Юрий Широбоков, сказали следующее: «Его голова работает немного не так, как у нормальных людей, – он, казалось бы, в самом обыкновенном видит то, чего не видят другие. Вроде бы сидим и думаем одинаково над каким-нибудь узлом или деталью. А потом ему придет в голову такое, что никак не могло прийти в головы нам, потому что в этом направлении мы даже и не думали! Ему, когда он создавал свой автомат, нужно было, например, решить задачу – сделать так, чтобы песок и грязь не проникали внутрь. Как эту проблему решали все остальные конструкторы? Старались подогнать детали так, чтобы не оставалось зазоров. И что сделал Калашников? Оставил под подвижными частями свободное пространство – в результате чего грязь вываливалась сама по себе. То есть подошел к проблеме совсем с другой стороны».
…По закону жанра в этом месте мне следовало бы написать что-нибудь типа: «И с тех пор, когда какая-нибудь сложная задача никак не решается в моей голове, я вспоминала этот пример и думала про парадоксальность мышления. И все у меня получалось!»
Увы, это было не так. Не получалось. Потому что даже зная формулу гения, стать гением невозможно.
Гении такого уровня, как Калашников, вообще появляются на планете нечасто.
Самое обидное – что никто не может предсказать, где именно он появится на свет в следующий раз.
Ну, а нам, россиянам, повезло уже хотя бы в том, что он родился у нас. И 94 года жил рядом».
Ловушка для удава
Гением стать невозможно, но можно хотя бы попробовать выйти за рамки стандарта. Рассказываю.
Однажды мне предстояло взять интервью у олигарха Бориса Березовского. К началу нулевых он уже жил в Лондоне, но по-прежнему был владельцем «Коммерсанта» иОРТ и тешил себя надеждами на скорое и триумфальное возвращение в Москву. Буквально за несколько дней до моего приезда он выиграл в столице Британии суд по поводу своей экстрадиции в Россию и слегка попаясничал перед журналистами, натянув на себя маску эльфа Добби из «Властелина колец», намекая на его схожесть с российским президентом.
Я взяла билет на самолет и начала названивать его секретарше. Как же мне повезло: Борис Абрамович все время откладывал встречу, в результате чего я провела в Лондоне вместо трех дней целых две недели. Не только по музеям, конечно, ходила – параллельно набирала материал для другой серьезной темы – и все звонила, звонила…
Зато у меня было время основательно подготовиться. Березовский, на минуточку, был доктором физико-математических наук. В наложении на его подвешенный язык и страсть к политическим интригам смесь получалась адская. Был шанс провалить интервью на раз. Это я поняла, ознакомившись с трудами моих многочисленных предшественников: они заходили в кабинет, попадали под гипноз его обаяния и начинали вести себя как кролики перед удавом. Надо было придумать нестандартный ход.
Изначально мы договаривались, что я приду к нему домой на ужин. Поместье подробнее рассмотрю, с женой, может, мило поболтаю (наивная я! – Г.С.). Потом Борис Абрамович сказал: нет, лучше пообедаем в испанском ресторане около офиса. Потом опять все переиграл – нет, говорит, лучше приходите в мой офис. Где я прождала его наверное еще часа три, вместе с покойным Сергеем Доренко, который с каменным лицом сидел в предбаннике, выбивая из БАБа (прозвище Бориса Абрамовича Березовского, составленное из первых букв имени, отчества и фамилии- Г.С.) какой-то свой недовыплаченный гонорар. И когда я, в конце концов, попала в кабинет, я на Березовского … наехала!
Без перегибов, конечно – тут нужно чувствовать грань, чтоб не вылететьс интервью на второй минуте. Я его строго отчитала за то, что он меня не накормил, обманул, не позвав домой и не уделил должного внимания. Он заинтересовался: журналистки с ним в основном кокетничали, а журналисты приседали в благоговении – мало кто способен выдержать магию больших денег. Я реально много раз наблюдала, как сильные и вполне состоявшиеся мужчины при встрече с олигархом начинали трястись. Деньги – это гипноз, который превращает людей в кроликов. Готовясь к интервью и изучая психологический типаж героя по его предыдущим беседам, я легко убедилась в том, что оба варианта – не выход. И выбрала для себя другую роль.
«Вы думаете, я рвалась к вам в дом, чтобы проверить, есть ли пыль на вашем комоде? Нет! Я хотела посмотреть, в каком сундуке вы прячете маску Добби?». «А я ее на работе храню, а не дома», – несколько опешив, ответил он, открывая ящик стола. «Ну так надевайте тогда» – строго велела я. Он, как загипнотизированный, достал маску, натянул на голову, я его сфотографировала. Потом примерила эту маску сама и попросила его сделать снимок. Что нам это дало? Подпись под публикацией: «Фото Б.Березовского» и официальное приглашение заскочить в редакцию, чтобы получить гонорар. Мило.
Этот прием – когда именно вы становитесь режиссером интервью, а не ваш собеседник – называется «Принципом перетягивания каната».
Но главное здесь даже не это. Борису Абрамовичу стало интересно. И после этого все у нас с ним было просто, как игра в пинг-понг. Хватает он вдруг, допустим, в середине нашего интервью блокнот и начинает что-то записывать. «Вы, наверное, пишете мемуары?» – вежливо спрашиваю я его. Ну, это же естественно – если человеку под 60 лет, он эмигрировал, не смог реализовать задуманное и мечется между хандрой и ностальгией – работать над мемуарами. «Галина, у вас суперспособности, вы меня видите насквозь! Мою первую жену тоже звали Галина и она тоже меня считывала!…» Ну и так далее. То есть, это уже я с ним играла, а не он со мной. В итоге получилось блестящее, без ложной скромности, интервью, за которое до сих пор не стыдно.
После публикации ко мне хороводом пошли с расспросами наши редакционные девушки-журналистки с вопросом: «Как тебе это удалось?» А как вы думаете? – спрашивала я их. Ответы поражали провинциальной банальностью: «Ну, я бы надела юбку покороче, накрасилась…» Послушайте, мне тогда было 38 лет! Какая юбка покороче, если Борис Абрамович имел красавицу-жену и, по слухам, интересовался исключительно нимфетками? Вот пришла я вся такая почти сорокалетняя в короткой юбке, одетая точно не от Дольче и Габбана – и дальше-то что? Это – один из самых дешевых и неэффективных поведенческих штампов. Заинтересовать умного собеседника можно только мозгами. Готовьтесь: годы тренировок уйдут на то, чтобы научиться делать это автоматически.
И еще об интервью, как методе и как жанре.
Не надо думать, что вам обязательно повезет и в собеседники достанется харизматичный герой, который будет говорить отточенными фразами. Такое встречается, но нечасто. Из моего опыта это только первый президент новой Эстонской республики, писатель и интеллектуал Леннарт Мери – про него журналисты шутили: он говорит такими выверенными фразами и так медленно, что можно не только успеть записать в блокнот его речь, но и расставить запятые.
С умными, допустим, все понятно: их надо заинтересовать. Есть, конечно, самый распространенный прием, действующий всегда и безотказно: изобразить дурочку (как вариант: честно предупредить у порога, что вы в предмете ничего не понимаете, потому будете задавать глупые вопросы – Г.С.). Как правило, собеседника это подкупает. Особенно если вы – студентка журфака, вам 20 лет и ко всему этому прилагаются широко распахнутые глаза и длинные ресницы. Метод себя оправдывает, но только по молодости. Если дурацкие вопросы задает взрослый журналист – ничего, кроме раздражения, это вызвать не может.
Представьте, я в таких ситуациях тоже бывала, и не раз. Был у нашего блестящего и увы, безвременно ушедшего из жизни главреда «КП» Владимир Николаевича Сунгоркина такой прикол: бросать сотрудника на незнакомый фронт. Это давало определенный эффект: из редакторов отдела информации получались отменные международники, а из спортивных журналистов – редактора отделов культуры. Но вот когда меня – человека, не имеющего никакого отношения к экономике, отправили на интервью к заместителю министра финансов Сергею Сторчаку – это было что-то с чем-то… Придумать вопросы-то и правильно их сформулировать я еще, допустим, смогла. Но как срочно научиться грамотно реагировать на ответы?!
К счастью, мой собеседник оказался человеком умным и терпеливым.Он сразу распознал, в чем интрига, да я, впрочем, ничего и не скрывала. И нам обоим сразу же стало легче. Подаренную им книжку, я, винюсь, так и не прочитала – такому читателю, как я, она с первого абзаца обеспечивалаздоровый сон. Но это был очень хороший опыт. Интервью получилось живым, и подвоха никто (надеюсь) не заметил.
А вот пример неудачного интервью: как-то в середине 90-х, еще в пору своей собкоровской молодости, я провалила беседу с актером Игорем Костолевским, который приехал в Таллин на гастроли. Это было в практике: ловить знаменитостей не в Москве, а на выезде и таким образом обеспечивать себе строкаж, а им – дополнительную рекламу. На интервью он согласился, но с явным нежеланием. Было лето,мы сидели на лавочке возле отеля. Ему было скучно, а мне горько – две недели назад умер мой отец и думать я могла в тот момент только об этом, скучно проговаривая заготовленные заранее вопросы типа: «Вы всю жизнь женаты на одной актрисе?»
«Да. Женат. И должен оправдываться?» - вяло огрызался он (Спустя пару-тройку лет он, кстати, развелся, так что тут я его брак немножко «сглазила» – Г.С.).
Я краснела от стыда за свою убогость. А нужно было просто быть искренней и рассказать, ему о том, о чем я думаю. О своем отце. В ответ на откровенность с моей стороны наверняка последовала бы откровенность с его. Ну или хотя бы сочувствие. Или, наоборот, полное его отсутствие. И интервью было бы небанальным. Но я промолчала. И зря.
В том же городе Таллине случился еще один забавный сюжет. Мне заказали интервью с прекрасным актером Лембитом Ульфсаком, который сыграл в театре и кино много ролей, но для меня прежде всего был Тилем Уленшпигелем. Я так красиво все придумала! Как я задумчиво пойду по Старому Городу, держа в руках гладиолус – средневековая Фландрия мне почему-то представлялась именно такой. Звоню, представляюсь: так, мол, и так, меня зовут Галина Сапожникова.
– Как! – почти кричит он в трубку! Вы? В Таллине? Не может быть? Хотя… Сколько вам лет?
Я опешила. Оказалось, у меня была полная тезка, тоже Галина и тоже Сапожникова, в которую он по молодости лет был страшно влюблен и которую у него увел кинорежиссер Станислав Говорухин.
Интервью Лембит Ульфсак мне, конечно, дал, но чувствовалось, что был несколько разочарован… Но здесь уж, извините, журналистское мастерство было ни при чем.
Нужно ли заверять текст?
Это будет самая короткая главка. И начинаться она будет с фразы:
«Однажды у меня самой взяли интервью»… Ну, вы поняли, что я пережила, перечитывая текст?
Люди слышат совсем не то, что им говорят. Люди говорят совсем не то, что хотели сказать. Результатом становится абсолютный ужас.
Поэтому лично для меня это абсолютно не оскорбительно: дать собеседнику возможность вычитать текст. В этом нет никакого унижения.
Что бывает дальше? Вариантов несколько: человек со всем соглашается (чего не случается почти никогда). Или с точностью до наоборот: человек ни с чем не соглашается и все переписывает казенным языком своей собственной рукой, вычеркивая из текста самые «вкусные» места.
Если он вам друг – будет один расклад, если враг – другой, если ни второе и ни первое – третий. Обсудим это в главе про психологические приемы в журналистике.
Вынос: Три самых важных правила журналистики: «Факт свят – комментарий свободен», «Должно быть минимум два мнения, а лучше три», «В любом конфликте виноваты двое, потому обязательно следует опросить противоположные стороны»
*Слова из песенки военных корреспондентов (текст Константина Симонова): «С “лейкой” и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужи мы прошли. Выпить есть нам повод за военный провод…» И так далее.
**
«С журналистикой закончено, забудьте».
Это первое, что мне говорят, услышав про то, что я решила написать путеводитель по профессии. С одной стороны – абсолютная правда: и в голову не могло прийти, до каких стандартов нам придется докатиться в XXI веке. В XX-м со свободой слова было как-то попроще...
С другой, к выводу о том, что «все пропало» общество приходит не первый раз. И в начале прошлого века, перед Первой мировой войной, журналистика тоже была в кризисе, и в период репрессий, и перед Оттепелью, и даже во времена перестройки, когда из чрева дракона вырвалось ТАКОЕ, что настоящей журналистике и не снилось. Оставим в стороне эти пожелтевшие страницы методички по истории журналистики, скучнее предмета на наших профильных факультетах не было.
Итак. Я очень надеюсь, что мы не в конце пути, а всего лишь в очередном,временном кризисе. И, долетев до самого дна, мячик опять задорно и радостно отскочит вверх, а общество поймет, что без образованных, разумных профессионалов от журналистикинормальным ему не стать, и выход на арену миллионов даже самых грамотных блогеров проблемы не решит. Умение красиво складывать слова в строчки или желание по любому поводу высказаться журналистикой еще не являются.
Как, впрочем, и обучение на факультетах журналистики не гарантирует того, что человек обязательно станет журналистом – здесь я ни с кем спорить не буду. Факт поступления на специализированный факультет вовсе не является пропуском в профессию: из моих однокашников по Ленинградскому государственному университету, например, в профессии остались единицы, а громкое имя не сделал себе почти никто. Большинство, за редким исключением тех, кто после журфаков подался в киноиндустрию или психологию, так и остались «рабочими лошадками», кропающими типовые заметки на скучные темы.
Зачем тогда оно – скажите на милость? Зачем было идти в журналистику, если не за мечтой – бороться за справедливость, покорять моря, океаны и кабинеты обнаглевших чиновников,исколесить тысячи километров дорог, стать известным, успешным и узнаваемым журналистом?
Для тех, кто не видит себя в роли безымянного пасынка пера и клавиатуры и предназначен этот учебник. Читать его, надеюсь, будет интересно всем – как тем, кто только поглядывает в сторону журналистики, так и тем, кто, набив руку, намеревается оставить в ней свой след. Это не учебник даже, а скорее, растянутый на 200 страниц мастер-класс, коллекция авторских инструментов, способных огранить алмаз и заставить его сверкать.
Это первое.
Вторым будет вопрос, который мне пока еще никто не задавал, но который я жду с нетерпением: «Каждый из более-менее известных журналистов мечтает и может написать свою книгу». Ну так вперед! Я буду только рада, если и другие коллеги последуют моему примеру. У каждого из нас есть огромный опыт, негативный и позитивный, и множество индивидуальных хитростей, которые можно и нужно систематизировать. Чем я лучше других? Ничем, кроме количества профессиональных наград и званий («Заслуженный журналист РФ», «Золотое перо России», обладатель почетного знака Союза Журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и проч.), и многолетнего опыта как проведения собственных мастер-классов, так и руководства школами журналистики. И, что самое главное – жаждой и щедростью этим опытом делиться.
И наконец третье: все, о чем написано в этой книге, касается исключительно газеты «Комсомольская правда», в которой я отработала больше 30 лет и работать в которой мечтала с раннего детства. Здесь мой труд, моя любовь и моя родина, счастье, слезы, опыт и бесконечная благодарность людям, которые меня окружали, учили, помогали и ставили подножки на этом прекрасном пути длиною в целую жизнь. Пусть это будет мой подарок к столетию «Комсомолки».
ГЛАВА ПЕРВАЯ. САМОЕ ГЛАВНОЕ
Ты помнишь, как все начиналось?
Мне было три года, когда я научилась читать, пять – когда меня записали в библиотеку и двенадцать, когда вышел мой первый материал в газете. В настоящей. Республиканской.
Фраза банальна и больше годится для мемуаров, но без нее никак. Обещаю, что в этом архаичном стиле будет написана только одна страница – эта.
Первыми двумя фактами могут похвастаться многие, а вот последним – вряд ли. Откуда у девочки небогатых родителей в областном центре вдруг появилась мечта о профессии журналиста – непонятно. Но объяснимо: природное любопытство, небольшой рост (и потому осознанная цель не торчать под прилавком, а узнавать все первой, вместе с «большими»!) и довольно возрастные по меркам тех времен родители, которым категорически не хотелось путешествовать. Ну или просто в семье инженера и учительницы на путешествия не было денег.
Но у мамы был младший брат, Глеб Бабушкин, телеоператор программы «Время» - и когда он к нам приезжал, скучный мир с музыкальной школой и лыжами для меня заканчивался, потому что его затмевал мир иной – с романтикой дальних путешествий, фотографиями чумазых чукотских детей, фантастической природой и невероятными рассказами о городах и людях. И да, к тому времени я каким-то образом умудрилась прочитать произведения двух моих кумиров – журналистов-писателей: Юлиана Семенова и Эрнеста Хемингуэя и послушать песни-репортажи Юрия Визбора. Короче, мне надо было туда! В журналистику.
И с 10 примерно лет я, как муравьишка, начала карабкаться по дереву с этим названием. Сочиняла заметки, писала рассказы в стол, читала газеты и условия поступления на факультеты журналистики. Пыталась даже однажды написать совместно с писателем-фантастом Киром Булычевым повесть (от моего текста, увы, осталась только фамилия). Все складывалось в мозаику –фанатизм, с которым я полюбила эту профессию, остался со мной навсегда. И много раз помогал выжить – в безумных ночных перелетах, бессонных ночах, первых абзацах, которые никак не выписывались и разочарованиях в людях и ситуациях.
Узлы судьбы перезавязывались в моей истории много раз, и весьма затейливо. Ну вот подумайте сами – как это все могло совпасть: письмо ижевской школьницы, потенциальной абитуриентки в Тартуский (почему-то) университет, вежливый ответ из приемной комиссии, аргументированный тем, что обучение там ведется только на эстонском языке, и через несколько лет - распределение в Эстонию после Ленинградского Государственного Университета!?
Сочинение на вступительных экзаменах на тему «Моя любимая газета», посвященное «Комсомольской правде» - и 30 лет работы в штате «Комсомолки»!
Мучения на пороге выбора будущей профессии, кем стать – журналистом или следователем? – и глубочайшее погружение в расследовательскую журналистику?
Недавно, когда моей родной школе № 27 в городе Ижевске исполнилось 90 лет, я встретила одноклассников, некоторых не видела до этого несколько десятилетий. «Ну рассказывай, - потребовали они, - как ты жила все эти годы?»
«Интересно!» - ответила я, не задумываясь.
Интересная жизнь – это, пожалуй, единственный и главный бонус, который вам дарит журналистика. А кто сказал, что это – не самое главное?
Краткий курс истории журналистики
Настаиваю: мы, журналисты, пережившие миллениум, видели все!
Все в смысле технологий, которые кардинально изменили профессию. Именно в нашу журналистскую жизнь пришли компьютеры, соцсети и стримы. Фиксирую исключительно для следующих поколений, чтобы они не запутались в «лейках» и «военных проводах», как в свое время путались мы.*
Итак, как мы работали после наших университетов?
Диктофонов не было, поэтому все интервью записывались от руки в блокноты. Интернета не было тоже – поэтому к беседам с героями готовились в библиотеках. Писали от руки черновики, потом перепечатывали на машинках. Если ошибались – замазывали букву белой замазкой, сушили и впечатывали поверх нее другую, правильную.
Материалы из командировок диктовали по телефону телефонисткам: «Точка, восклик, абзац». Иногда разговор обрывался и ты только минут через 40 обнаруживал, что все это время диктовал текст в пустоту. И, вздохнув, начинал диктовать с начала…
Потом появились первые, громоздкие диктофоны. Если техника подводила и пленка вдруг оказывалась пустой, приходилось напрягаться и вспоминать интервью по памяти.
Фотографии передавали с поездами. Ладно если со знакомыми пассажирами – но ведь донести конверт до редакции за так, из уважения к журналистике, соглашались совершенно незнакомые люди! Таков был авторитет профессии в обществе.
Технический прогресс, впрочем, не дремал. И однажды в моем таллинском коррпункте установили телетайп – огромную тумбу, которая время от времени включалась сама по себе и начинала отстукивать и передавать информацию неизвестно куда. Эстонцы, которые приходили ко мне в гости, страшно пугались. Я важно заверяла, что депеша уходит напрямую в Кремль. Мне верили…
Чтобы передать текст в редакцию, сначала надо было его набить на перфоленте – из тумбы выползала длинная белая змея со множеством дырочек. Потом ее надо было вставить в какие-то рельсики, и тогда телетайп начинал бодро сотрясать всю квартиру, изрыгая из себя на другом конце провода, в Москве, готовый текст. Как-то в начале 90-х мне позвонил коллега с этажа и попросил написать небольшой материал о собирательном образе эстонского народного депутата. Дело происходило сразу после развала СССР, все было необычно и ново. Написать надо было следующее: во что депутат одевается, какие галстуки носит, что читает, что заказывает в столовой.
Я бодро приступила к делу и написала текст. В качестве блюда выбрала национальное кушание - «мульги капсад», переписав рецепт из кулинарной книги. На самом деле это блюдо имеет массу поклонников и я его сама с удовольствием поедаю раз в год, на Рождество. Но в печатном виде это читается, конечно, не очень: квашеную капусту тушить со свиным жиром и перловкой и запивать стаканом кефира… Ну вот как-то так. Телетайп, отстукивая, начал передачу. И тут мне кто-то позвонил на домашний телефон (мобильных еще не было). Телетайп, соответственно, замер, потому как был привязан к телефонной линии. Только кладу трубку – сразу же звонок из Москвы, с осторожным вопросом: «Галя, ты как себя чувствуешь?» «Нормально», – отвечаю, не чувствуя подвоха. «Да? - удивленно выдохнули в редакции. – А мы думали, что тебя стошнило».
Оказалось, там, на выходе, текст застрял точно после рецепта…
Потом на смену этим капризным ящикам пришли компьютеры. Мастер с Центрального Телеграфа, которого я вызвала забирать телетайп, долго меня уговаривал не спешить: «Еще пожалеете!»
Что было дальше, вы знаете: компьютеры, сканеры, интернет, мобильные телефоны, соцсети, стримы и бесценные архивы в электронном виде, которых можно лишиться одним неверным нажатием пальчика на клавиатуре. Журналистика теперь, конечно, совсем другая. Но классических технологий никто не отменял.
Нужно ли журналисту вести дневники? Или «Мы, Николай Второй»
Обязательно! Но я поступила с точностью до наоборот.
Более опытные коллеги говорили мне: ты живешь в переломное время (развал СССР, независимость Эстонии, образование новых государств), все записывай – пригодится.
Последнее весьма сомнительно, мемуаристика все же – не совсем журналистика, а несколько другой жанр. Хотя я знаю нескольких прекрасных журналистов, которые обеспечили себе старость исключительно благодаря своим дневникам.
Но я не записывала. Причин было несколько. А) Усталость. Жизнь неслась с такой невероятной скоростью, что, набегавшись по интервью и митингам и надиктовав заметки в Москву, даже думать о том, чтоб записать события еще и в дневник, сил не оставалось.
Б) Природная скрытность. Я, видимо, что-то нехорошее предчувствовала уже тогда – и очень не хотела, чтобы этот документ попал в руки спецслужб. И много раз потом с благодарностью вспоминала ту свою молодую лень. Пусть то, что было, останется со мной, и только со мной...
В) Самоуверенность. Почему-то я была убеждена, что моя память мне никогда не изменит и все сохранит. А память изменила – и ковид тут не при чем.Просто профессиональная жизнь оказалась настолько богатой на события, что стерла до дыр все важные воспоминания. Не дотла, конечно, стерла – они где-то там еще лежат под обломками памяти, и не исключено, что когда-нибудь найдутся целыми и невредимыми.
Скажу вам более – я и сейчас ничего не записываю. Скорее всего, просто не хочу, чтобы свидетельства предательств и переобуваний в воздухе, которые я последние несколько лет наблюдаю у многих своих знакомых, остались в истории. Это неправильно, особенно на фоне того, с какой легкостью сейчас замазывают правду и рассказывают небылицы о том времени,в котором мы жили и живем.
У всей этой печальной истории есть, впрочем, и один плюсик: спустя время память сама отфильтровывает все лишнее и поднимает на поверхность только самое ценное, не позволяя утонуть в информационном мусоре.
Но если бы пришлось начинать все сначала – я бы все-таки поступилаиначе.
А при чем тут, собственно, Николай Второй?
При том, что он-то как раз вел дневники и записывал, например, сколько ворон в день убил, гуляя по парку. Факт, который меня потряс: дело это было в 1917 (!) году. У него страна рушилась – а он ходил по парку и стрелял ворон. И если бы сам не зафиксировал это в истории – об этом бы никто и не узнал. Делайте выводы.
Девушкам, обдумывающим житье
Почему только девушкам?
Потому что прямо пропорционально падению престижа профессии журналиста мальчики из нее дружно испарились.
Я их еще застала, этих прекрасных мальчиков, которые создавали честь и славу нашей профессии – и на факультете журналистики их было больше половины, и в газете. Они покоряли Северный полюс, сплавлялись по рекам и морям и рисковали под пулями на передовой. Их осталось немного, я почти всех знаю поименно. Остальные ушли в политологи…
Причин тут несколько. С одной стороны, мужчины пересели на более денежные места – что вполне разумно. С другой – женщины догнали их на поворотах и даже кое в чем преуспели. Не скрою – мне доставляло особенное удовольствие то, когдаколлеги-мужчины смущенно признавались: «Мы бы так, как ты, Галь, не смогли»…
Журналисток в кино изображают карикатурно. Либо эдакими капризными и глупыми фифами с нереальными запросами, либо, наоборот, полную им противоположность – в виде прокуренных изношенных старых кляч с немытыми волосами. Бывают примеры из области фантастики – я, например, нашла в одной из публикаций, пассаж о том, что будто бы именно я (горжусь!) стала прототипом журналистки из фильма «Жесть», которую сыграла Алёна Бабенко. Что ж, не буду скрывать – это мне польстило: героиня жила в роскошном пентхаусе и гонялась за маньяками.
Про маньяков-то, допустим, почти правда – о них мы будем говорить много. Но вот насчет всего остального…
Обратная сторона медали успешной журналистки – несчастливая личная жизнь. И о этом надо помнить, выбирая профессию. Казалось бы: ну как так-то – профессия позволяет познакомиться с таким количеством невероятных, интереснейших мужчин? А ты их не замечаешь, потому что бежишь… Потому что на каждого интересного где-то там, впереди, находится еще более интересный. Потому что тебе некогда оглядываться назад. И жизнь с борщами и пеленками на фоне пожизненного впрыска адреналина кажется тебе скучной.
Выход есть, и я знаю, какой. И может быть в следующей книжке, которая будет посвящена профессиональному выгоранию, напишу об этом подробнее. Но пока кратко: две звезды в одном корыте не уживаются. Тем более – две звезды журналистики. Кого ищет в спутники жизни женщина-журналист? Яркую, неординарную, состоявшуюся личность, которому (увы) нужна совсем другая жена. Иными словами: либо ты танцуешь вокруг своего мужчины и обеспечиваешь ему карьеру. Либо танцует твой мужчина, освобождая тебя от рутины.
К счастью, мне хватило и ума, чтобы вовремя это понять, и жизни, чтобыиспробовать. Наверное, останься я одна,написанных книжек в моей одинокой жизни было бы больше, и конкретно эта книга вышла бы гораздо раньше. Но она точно не была бы такой веселой. А может быть не было бы ни книжки, ни жизни: после того, как меня депортировали из Литвы, что закончилось серьезным гипертоническим кризом, из болезни меня вытащил именно мой муж Виктор. И я четко поняла, поедая кашку с ложечки, что фраза «За каждым великим мужчиной стоит женщина» не имеет гендерной принадлежности. За каждым успешным человеком стоит еще один человек, который жертвует собой ради твоего успеха.
Кому нельзя идти в журналисты?
– Молчунам и интровертам. То есть, мне.
Те, кто меня знают лично, такому признанию, конечно, подивятся. Но это – неоспоримый факт: чукча (то есть, я) в детстве больше всего любила читать, а не писать.
Наблюдать за жизнью издалека и мечтать – вот что мне было дано от природы.
Для журналистики требуется кое-что еще. Эрудированность, допустим, дает школьное и университетское образование. Умение складывать слова в предложения и расставлять запятые – количество прочитанных книжек. Слог (или ритмику текста) дарит музыкальный слух. Для кого-то, возможно, существует проблема первого абзаца, а для меня главный вопрос всегда был другим: как поймать музыкальный ритм, в котором напишется текст? Зато когда мне наконец удавалось его словить – все писалось так, как будто текст кто-то диктовал сверху.
Но вообще-то речь сейчас не об этом. О психологической предрасположенности к профессии. Или ее отсутствию.
Главная проблема для меня, с которой я за жизнь так и не смогла справиться – это кому-либо позвонить. За гипнотизированием телефона я и сейчас могу провести несколько часов. Как и за тем, чтобы подойти к незнакомому человеку на улице. А сколько телефонных аппаратов за свой век я разбила! Вот вам, например, бывало стыдно перед разбитыми телефонами? А мне – да… Это лечится: во-первых, психологическими практиками. А во-вторых, опытом. Со временем я научилась использовать этот свой комплекс в свою пользу (об этом в главе «Когда нам можно плакать»?).
– Высокомерным выскочкам. К счастью, они в профессии не задерживаются и сразу же уходят в политологи.
– Природным злюкам, не испытывающим эмпатии. Пусть лучше журналист будет лошариком, поверившим первому встречному – но только не бесчувственным чурбаном, который не доверяет всем и вся.
– Несостоявшимся писателям, понадеявшимся на то, что журналистика сокращает путь в большую литературу. Запомните: это разные профессии. И далеко не каждый журналист мечтает, как это принято считать, написать свою собственную художественную книгу. Захочет – напишет.
– Тем, кто надеется на журналистике заработать и обеспечить себе беспечную старость.
Бывают в истории периоды, когда общество вдруг поворачивается к журналистам лицом и они случайным образом начинают обогащаться и получать гранты и премии. Увы, эта любовь не взаимна и не безоблачна: там, где начинаются деньги, заканчивается честная журналистика. И талантливая тоже: это давно проверено – талант стремительно улетучивается прямо пропорционально денежным поступлениям.
– Лентяям, которые не могут представить себе бессонную ночь в поисках стиля. Не верьте тем людям, которые врут, что способны написать гениальный материал за полчаса. Так не бывает. Просто поверьте, и все.
– А еще трусам: не попасть, будучи журналистом, в какую-нибудь переделку – будь то выслеживание маньяка или бегство от преследования, очень сложно.
Кому же тогда, спрашивается, туда идти? И главное – есть ли смысл?
Есть. И это вовсе не возможность самовыражения, не деньги и не слава. Что же тогда?
Путешествия. Уникальная возможность увидеть мир во всей красе. Люди. Эмоции. «Запомни, Галина, – говорил мне при встрече легенда «Комсомолки» Василий Михайлович Песков. –Самое интересное в жизни – это сама жизнь!». И повторял это почему-то каждый раз, когда меня видел.
Вы все еще хотите стать адептом нашей секты? Тогда вперед!
Вынос: Кому нельзя идти в журналисты?
Молчунам и интровертам
Высокомерным выскочкам
Природным злюкам
Несостоявшимся писателям
Тем, кто надеется на журналистике заработать
Лентяям
Трусам
ГЛАВА ВТОРАЯ. Теория жанров
Очень коротко, для начинающих: давайте вспомним, о чем нам давно и скучно рассказали на факультетах журналистики? О том, какиебывают жанры. Итак:
«Информация» – это тот абзац, который вы выставляете на своих страничках в соцсетях, когда хотите отметиться перед миром, что вы еще живы.
«Зарисовка» – более длинный и красивый отчет с фотографиями и подробностями – например, о романтическом путешествии.
«Заметка» давно уже перестала быть жанром. В «Комсомолке» «заметками» называют абсолютно все материалы. Эта традиция родилась раньше, чем я пришла в «КП», потому историю ее происхождения я не знаю. Скорее всего, это применялось для того, чтобы сбить с репортера спесь и нивелировать значимость его интеллектуального труда.
Слово «Материал» из лексикона современного журналиста почти ушло. Согласитесь, фраза: «Работаю над материалом» в нынешние времена звучит несколько пафосно, а сочинять тесты (так считается) с приходом в жизнь соцсетей умеют все.
То же самое с понятием «Очерк» – звучит старомодно и припыленно. По-современному это «Лонгрид» – то есть, чтиво для избранных. Жанр, подвластный немногим.
Про «Аналитический отчет» можно смело забыть – его за вас прекрасно и быстро сваяет Искусственный Интеллект. Или совершенно бесплатно сделают многочисленные «диванные эксперты» (вчера космонавты – сегодня анестезиологи – завтра ветеринары – Г.С.) на просторах запрещенного ныне Фейсбука.
Про «Расследования» – самый интеллектуальный жанр, вершину профессионализма журналиста – я расскажу отдельно, для общего сведения и про запас, на далекое будущее, поскольку в ближайшее время заниматься ей нам не светит.Все, кто ей серьезно увлеклись, начиная с Джулиана Ассанжа, уже убиты или сидят в тюрьмах. Дождемся рассвета.
Что нам осталось? Репортаж и основа основ журналистики: Интервью.
На этом и остановимся.
Его величество репортаж
Если честно – самый важный, но лично мной самый нелюбимый жанр, потому что он требует скорости. Думать времени не остается – надо действовать, грубо, нахраписто, запихивать в голову информацию, не пережевывая. А потом на коленках вбивать эти факты в текст и передавать в редакцию, чтобы успеть в номер или опередить конкурентов.
С другой стороны, для журналиста это самый важный опыт, потому что репортаж – наиболее читаемый жанр. Ведь что хочет читатель? Подробностей – не непроверенную информацию случайного свидетеля, и не конспирологическую версию какого-нибудь неопытного блогера, а правду. Правда – у журналиста. Вернее будет сказать так: концентрация правды в тексте профессионального журналиста будет несравнимо выше, чем у любителя, потому что как бы там ни было, в голову репортера намертво вбиты три важных правила: «Факт свят – комментарий свободен», «Должно быть минимум два мнения, а лучше три», «В любом конфликте виноваты двое, потому опросить обязательно следует противоположные стороны». И мы им все-таки следуем на уровне инстинкта, как повара, которые знают, что для теста нужны мука, яйца и вода.
Главное в репортаже – деталь. Любая: запахи и звуки, краски, настроение, ветер, который гоняет по асфальту мусор, рев моря или крик птиц – все это в конечном итоге и сделает вам погоду.
Репортаж – это маленький рассказ, только на документальной основе, потому у него должна быть композиция: завязка, кульминация, финал (желательно на высокой моральной ноте). Как люди умудряются это сделать, причем быстро – для меня загадка. Но ведь делают же!
Неважно, о чем репортаж – как у любой истории, в нем должен быть герой – не обязательно одушевленный: человек, собака, памятник.
Лучше научиться сразу думать вперед и набирать сюжетов и деталей на день вперед: редко кого из журналистов отправляют в командировку ради одного текста, чаще – ради репортажной серии. Поэтому, приехав на место и измерив «температуру по больнице», не нужно вываливать весь собранный материал в первые же сутки: может случиться, что завтра и послезавтра вам так не повезет и передавать будет нечего.
Те, кто правилом экономии фактов пренебрегают, нередко совершают ошибку, с точки зрения журналистики – страшную: они начинают сочинять то, чего не было. Соблазн велик: редактор подгоняет, читатель ждет развития и новых душещипательных историй (особенно в том случае, если речь идет о репортажах с катастроф или терактов), а в запасе у репортера больше ничего нет…. Это опасный путь. Как его избежать? Легко: собирая материал для репортажа сегодняшнего, прикидывать, что ты передашь в газету завтра.
Это трудно. Это очень трудно – особенно если командировка предполагает разницу во времени и длинный перелет – как, например, у меня было в 2011 году в Нью-Йорке, откуда следовало передать серию репортажей о возведении Мемориала 9/11 в память о погибших 11 сентября 2001 года. То есть: днем ты, забыв про джетлаг, носишься по городу и цепляешь истории для репортажа, который надо передать в номер, параллельно договариваешься о завтрашних встречах, непонятно где и как на коленке пишешь сам текст, потом еще выходишь в эфир на радио, ночью перегоняешь на сайт фото и видео, спишь пару-тройку часов и все по новой…
Выдержать это почти невозможно. И представьте: параллельно с тобой в точке работают несколько бригад телевизионщиков, где твою работу делают 3 или 4 человека, и ты их тихо ненавидишь, наблюдая, как чистенький и хорошо отдохнувший корреспондент повторяет хорошо поставленным голосом вопросы, которые ему в ухо диктует редактор. Оператор снимает его на видео, за поворотом ждет водитель на арендованной машине, а продюсер в это время договаривается о следующих встречах. И если он пытается еще и выцедить информацию у тебя и выпросить телефон героев твоего эксклюзивного сюжета – ты можешь его смело укусить. И будешь прав! Если и существует на свете профессиональная солидарность, то она в этот момент умирает…
Плюс в таком ритме репортажной работы только один: ты чувствуешь себя всесильным… В изобретенной в «КП» концепции «универсального журналиста», способного работать во всех форматах, все-таки есть смысл. После «Комсомолки» не страшно работать абсолютно нигде…
Как со всем этим бороться? Готовить «консервы» – то есть, приезжая на событие, откуда редакция ждет целую серию эксклюзивных репортажей, заранее распланировать, что, когда и сколько передавать.
Впрочем, иногда концепция заготовленной заранее «консервы» дает сбой – как, например, случилось у меня в 2016 году в Лондоне. Все было предсказано заранее (что Великобритания из Евросоюза совершенно точно не выйдет), последний день командировки расписан по минутам, «рыба» текста написана. План был таков: встать в 4 утра (в Москве уже было бы 7-00), обновить текст свежими данными после подсчета голосов, потом метнуться на электричку в Лондон (я жила у знакомых в пригороде), торжественно позавтракать с победителями плебесцита, добавить пару-тройку красивых деталей и отправить в Москву финальный текст, потом три раза выйти в эфир на радио и успеть на электричку в Оксфорд, где тебя ждут друзья и где можно хотя бы на полдня предаться релаксу и нюхать магнолии. Долгожданный день отдыха. Ура!
…А утром выяснилось, что с разницей в несколько процентов победила партия сторонников выхода Британии из ЕС. Мой текст пропал, не родившись...
И дальше был кошмарный кошмар и ужасный ужас. Оставляю чемодан в камере хранения на вокзале. Никто из моих источников и спикеров не отвечают: либо все в шоке, либо напились и отсыпаются, либо просто не хотят говорить.
Еду в центр, на улицу Пикадилли, сажусь в кафе и начинаю сочинять новый текст. Компьютер садится. Зарядка-то у меня с собой, да вилка не подходит к выключателю, а адаптер успешно забыт в камере хранения. Бегу по индийским лавкам искать новый. Возвращаюсь – теперь занято место в кафе. Перебегаю в следующее. Оно оказывается дорогим итальянским рестораном. Приходится заказывать за какие-то немыслимые деньги пасту, иначе выгонят. Жую и параллельно пишу материал. Всеэто время надрывается телефон – это требует выйти в прямой эфир радио «КП». Выскакиваю на улицу, чтобы прокричать российским слушателям какие-то слова. Потом еще раз. И еще. Что я там говорю в прямой эфир – даже не обсуждается. Не помню. Возвращаюсь в кафе. Меня не выгоняют, но я ухожу оттуда сама. Иначе, судя по лицам, скоро отравят…
…Урок здесь может быть только один: вариантов развития ситуации в кармане у журналиста должно быть несколько.Как и вариантов заметок в номер. Причем всегда.
Нужно ли готовиться к интервью?
Можно стать прекрасным журналистом и сидя дома, обходясь без репортажей и командировок. Но есть жанр, без которого и журналист невозможен, и журналистика: это интервью.
Однажды, на заре моей юности, а именно на студенческой практике в «КП», ябуквально остолбенела, услышав от корреспондента серьезного новостного агентства фразу: «Я не готов сейчас к интервью и специально приеду завтра». Столько лет прошло, а я до сих пор думаю – прав он был или не прав?
«Он же профи! То есть, в любой момент может сложить узор из вопросов!» - внутренне возмущалась «Я – студентка».
«Зачем приезжать еще раз, если можно записать ответы прямо сейчас?» - вторил ей «Я – человек».
А «Я – профессионал» думаю сейчас совершенно иначе.
Видите ли, есть на свете интервью-жанр и интервью-метод. И называются они одним словом. Интервью с маленькой буквы мы берем каждый раз, когда общаемся с носителем информации, а Интервью с большой – это отдельное направление в журналистике, у которого есть свои законы. Некоторые выдающиеся интервьюеры даже выпустили об этом книги – я имею в виду не скучные сборники устаревших бесед на когда-то актуальные темы. А интервью, в которых есть драматургия: с прологом, эпилогом и обязательными провокационным вопросами, которые нужно продумать заранее. О некоторых примерах провальных и, наоборот, исключительных интервью из моей журналистской практики я сейчас и расскажу.
«Именем Михаила Николаевича Саакашвили…»
Перспектива взять интервью у Вахтанга Кикабидзе свалилось на меня совершенно неожиданно.
Август 2008 года, Грузия и Россия только-только выдохнули после пятидневной войны, Кикабидзе громко отказался от российского ордена Дружбы и о встрече с ним договаривался совсем другой мой коллега, которого внезапноотправили в Африку.
В общем, примерно часов в шесть вечера мне объявили, что рано утром вылетаю в Батуми.
Времени на сборы – почти ноль, перед сном закачиваю в компьютер максимальное количество материалов по теме, чтобы почитать в самолете. А в самолетезасыпаю сном младенца.
Ладно, думаю – в любом случае прилетаю я вечером, интервью наверняка будет назначено на следующее утро, а за ночь как-нибудь сориентируюсь.
И тут…
Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны аккурат во время моего перелета и ваэропорту славного города Батуми нас ждала картина «Не ждали» в исполнении грузинских пограничников. Выбор был невелик: уплатить штраф и немедленно улетать тем же рейсом в Москву или на свой страх и риск оставаться в Грузии.
Начинаю лихорадочно соображать: что я получаю, если улечу обратно?Зря потерянное время. А если останусь? По крайней мере, репортаж о ночи, проведенной в аэропорту после разрыва дипотношений. Материала будет предостаточно: я на рейсе была такая не одна – несколько грузинок с российскими паспортами так громко орали на пограничников, что заглушали голос диктора, который объявлял о вылетах и посадках. Чувствовалось, что сюжетов для статьи будет море. Решено!
– Эээ…А где вы будете спать? – удивились моему решению пограничники.
– Здесь (показываю на транспортерную ленту).
– А умываться где?
– Там (показываю на туалет).
– А что будете кушать?
– То, что вы принесете: сациви, хачапури, чкмерули (вспоминаю на ходу все, что помню из грузинской кухни).
Вижу: аккуратно записывают… Неужели и в самом деле принесут?
А если нет?
Да чего я теряю? – думаю. Позвоню напрямую «виновнику» события, самому Кикабидзе. В гости звал? Звал. Меня не пускают? Не пускают. Вот пусть теперь сам с этим и разбирается.
Лучше бы я этого не делала… Вскоре аэропорт Батуми был полностью парализован. Потому что туда приехал батоно Вахтанг Константинович Кикабидзе.
Следующей сценой был миг моего персонального журналистского позора. Потому что Кикабидзе сел напротив меня в комнатке замначальника заставы и сказал: ну давай, спрашивай.
А Я К ИНТЕРВЬЮ НЕ ГОТОВА!!!
То есть, не так: любой опытный журналист сходу может провести интервью, построенное на банальностях. Но мне-то нужен эксклюзив! Его на вопросах о творческих планах не вытянешь! То есть, нужно было: а) изучить опыт коллег-предшественников, б) составить психологический портрет собеседника, в) заготовить блоки вопросов, г) придумать ходы, которые сделали бы материал по-настоящему авторским. А я вместо того, чтоб подготовиться, блаженно отсыпалась у окна в самолете…
Кикабидзе, кажется, начинает понимает, что я плыву. Этот шанс у нас может быть последним: сейчас он встанет и уйдет, а я останусь печально плескаться в море своего профессионального позора и улечу домой ни с чем.
Спасение приходит неожиданно. Дверь кабинета резко распахнулась и на пороге возник начальник погранотряда с каким-то свитком в руках и, глядя на меня, торжественно провозгласил: «Именем Михаила Николаевича Саакашвили (я похолодела, конечно – Г.С.)… вам разрешено остаться в Грузии на 90 дней!» Вах!
После чего мы с Кикабидзе раскланиваемся и договариваемся встретиться не следующий день.
Все получилось, в итоге: за ночь я основательно подготовилась, Вахтанг Константинович вызвал телеоператора, «дабы московские редакторы не переиначили его слова» и это интервью долго еще показывали по Аджарскому телевидению, которое в то лето транслировали чуть ли не по всему миру. Эксклюзива там было даже больше, чем нужно – все человек рассказал: и про то, что герой фильма «Мимино» в пятидневной войне стал бы вертолетчиком и полетел бомбить Цхинвал, и что, говоря, «С Россией надо покончить», он имел в виду, что Грузии надо отойти от России и вступить в НАТО, их просто перевели неправильно. И про то, что стрелять – это очень легко. И умирать очень легко. А вот жить трудно.
При сокращении текста вылетел важный абзац, о котором я до сих пор жалею. Разговариваем о том, что Вахтанг Константинович пишет мемуары.
«Как жаль, что я не знаю грузинского и не смогу их прочитать», - театрально вздыхаю я.
«Почему не сможете? Я же их по-русски пишу. Я по-грузински не умею», – простодушно признается он.
…То ли смеяться, как говориться, то ли плакать. А лучше все вместе.
Парадоксальность мышления – в журналистике и в науке
Мой хороший коллега по «КП» Павел Садков составил классификацию журналистов, которые берут интервью (нахал, пофигист, забияка, фанат, охотник, человек-диктофон), и самих интервьюируемых (болтун, молчун, пустозвон, мудрец, весельчак, дурак, человек-книга). Весьма точные наблюдения, но я бы кое-что добавила. Список интервьюеров должен возглавить типаж «Студентка» (вариант: «Блондинка»), а в список интервьюируемых надо непременно добавить человека по прозвищу «Наше все!» Я имею в виду знаменитого оружейника Михаила Калашникова.
Потрясающий, конечно, он был человек – беда в том, что он СТОЛЬКО раз давал интервью, что все последние годы говорил абсолютно одно и то же. До знаков препинания и соединительных гласных! Чтобы сделать из беседы с ним эксклюзив, надо было придумывать нечто особенное.
Мне в этом плане, конечно, повезло больше других, потому что он жил и творил в родном городе моего детства – в Ижевске. Это открывало совсем другие возможности. Можно было не изображать из себястоличную штучку, а превратиться на время интервью в эдакую ижевскую школьницу из кружка юного журналиста при городском пионерском штабе и задавать девчачьи вопросы, которых ему никто не задавал. В первый раз (это, кажется, был год 1995-й) я обескуражила его вопросом про цвет глаз, необычно голубой, как зимнее небо. И обнаружила за маской прославленного Героя СССР трогательного и смущенного юношу. Потом, перед каким-то из следующих его юбилеев, выспросила у него рецепт засолки огурцов, который теперь путешествует по всему интернету именно с моей подачи.
Впрочем, зачем я цитирую сама себя? Лучше, чем когда-то было написано, уже не напишешь:
«Увы, Интернета в начале девяностых не было, потому мое первое интервью с Михаилом Калашниковым кануло в вечность…
Это не страшно – на вопросы журналистов он уже тогда отвечал по накатанной схеме, среди тех, кто ездил к нему за интервью по нескольку раз, даже была шутка – встречаться-де больше не обязательно, теперь сможем написать за него ответы сами…
Но даже при том, что его ответы на свои вопросы ты знал наизусть, каждая встреча с ним была необыкновенной.
Первая. Ему всего 75 – молодой парень со смеющимися ярко-голубыми глазами, нереальный живчик ростом метр шестьдесят с кепкой. Мужчины-журналисты потом долго надо мной потешались: нашла о чем писать – о голубых глазах! А мне казалось, что это как раз правильнее: о том, как Михаил Калашников в 21 год изобрел свой знаменитый автомат, уже писано-переписано. А о том, какой он человек – нет. Так какой? Очень сложный. Очень правильный. Очень молодой и очень старый. Напросилась к нему в тогдашний в мини-музей – небольшую комнатку на каких-то городских задворках – не то, что сейчас, когда целый калашниковский музей с памятником, открытым при жизни, стал городской достопримечательностью.
Комната густо уставлена подарками – радиола, кубки, вазочка с логотипом «Комсомолки». А на дворе 1994 год, мой родной Ижевск занимает первое место на Урале по безработице, оборонные заводы стоят, город в депрессии, родственники, приглашая в гости, могут выставить на стол только соленые огурцы и вареную картошку. Добавьте к этому разбитые дороги, бандитов в спортивных штанах, комиссионные магазины с бутылками «Амаретто» и спиртом «Рояль» и успех в жизни, измеряемый видеомагнитофонами и китайскими пуховиками.
Тогда очень популярны были такие разговоры: вот жил бы Калашников в Америке и получал хоть по 5 центов с каждого своего автомата – наверняка был бы миллиардером, а в ЭТОЙ стране он якобы голодает и у него абсолютно ничего нет…
Как же он от этого раздражался! Как сейчас помню – подвел меня к стенду, на котором была прицеплена поздравительная телеграмма от Брежнева, и сказал: «Вот мое главное богатство! И никаких других мне не надо!» Дело не в Брежневе, конечно (хотя однажды он не пустил к себе в гости комика Геннадия Хазанова – за то, что тот пародировал Брежнева – Г.С.) – а в признании ее заслуг государством, что для Михаила Тимофеевича и было главной жизненной ценностью. Тогда это казалось удивительным - ведь все, что угодно мог себе попросить человек! Все-таки прав был Маркс: бытие определяет сознание. В сознании наших дезориентированных морально сограждан образца 90-х телеграмма от Брежнева никак не могла конкурировать с магнитофоном китайской сборки… А он рассуждал так: квартира есть? Есть. Машина есть? Тоже. На жизнь хватит. Вот чего точно он не терпел – это когда кто-то пользовался его именем или старался на нем заработать.
Развал страны Калашников переживал страшно тяжело. Говорил в интервью: «Неприятно, что мое оружие используется в межнациональных конфликтах. Я его не для этого создавал. Надо защищать рубежи отечества, а не вести национальные разборки. Тут виноваты политики. Вы думаете, мне было приятно видеть, как из танка – я на фронте таким же командовал! – стреляли по «Белому дому»? Я сам чуть не выстрелил в этот японский телевизор. Я не мог себе представить, что такое может быть. Однако же стреляли… Но я вам скажу: я все-таки верю, что Россия встанет твердо на ноги, займет свое подобающее место». Все так и вышло.
Вторая встреча была на следующий юбилей, через пять лет. Нет, мы иногда виделись и в перерывах – но у Михаила Тимофеевича была странная особенность – он не запоминал лица. Исторические даты помнил, книги, стихи – а вот людей забывал, поэтому каждый раз с ним приходилось знакомиться заново. Но, судя по тому, что разрешил зайти к нему в гости – ту, первую публикацию про голубые глаза, он все-таки запомнил…
О! Это была встреча с нереальной, казарменной, патологической чистотой! Ну правда – такого порядка я не встречала и в домах у немецких фрау – а ведь человек жил один и к тому моменту ему было 80! Ни электрика, ни сантехника никогда не приглашал – все сам: «Я, если муха появляется в квартире – объявляю чрезвычайное положение. Пока не уничтожу – не успокоюсь!» Но главной его фишкой, конечно, были огурцы. «Я каждый огурчик на корешок укладываю, как патроны!» – поучал он. Они и правда стояли в банке плечом к плечу, как стойкие оловянные солдатики, одинакового до миллиметра размера. Странно: при всем масштабе его личности о Калашникове все время хотелось говорить в умилительном ключе – и что в свои преклонные годы он сам садится за руль, ездит на охоту и водочку пьет, и подшучивает по поводу того, что весь мир думает, что он уже давно умер…
Почему? Объясню: он, с одной стороны, был великим, а с другой – трогательным в своей старости и беззащитности. Читал свои стихи про танки. При абсолютном отсутствии слуха мог спеть песню про артиллеристов узнаваемым скрипучим голосом. Вздыхал, когда просили автограф – раненая когда-то рука могла выводить только каракули. Мог разозлиться и не дать разрешения печатать про себя книжку, даже если ее написал друг, который прошел с ним всю жизнь – если его не устраивала хотя бы строчка. Перфекционизм полезен для общества, но тяжел для близких. Он не был одинок – две дочери, сын, внуки – а тоска по рано ушедшей любимой жене и безвременно погибшей дочке Наташе выгрызала его сердце так, что все остальное казалось неважным.
«Говорят, все на свете устроено справедливо, и если Бог дает человеку талант, то обязательно ущемит в чем-то другом. А если дарует идеальную семью и любовь, то делает его рядовым дворником», - осторожно сказала я ему. Он ответил скупо и без эмоций: «Со мной он поступил так же», - но чувствовалось, что тоже думал об этом всю жизнь.
Третья встреча была последней. Самой непродуктивной – потому что он заупрямился и отказался говорить. Почему? Не поверите: ему тогда ремонтировали зубы и он в свои 85 лет хотел предстать перед молодой относительно его лет дамой на коне и в силе. Так и просидел все полчаса, прикрывая рот и мыча из под ладони, как я его ни уговаривала... Велел вместо этого идти изучать его творческую лабораторию. Делать было нечего, я пошла. В принципе, это и было интереснее всего – понять природу человеческого гения. Ну как, скажите на милость, возможно, чтобы парень из бедной крестьянской семьи, который в школе изобретал вечный двигатель и сумел убедить в том, что он прав, даже своего учителя физики, имея всего 9 классов образования, изобрел оружие, признанное лучшим в мире? Как работает голова человека, который, по свидетельству друзей, постоянно чего-то изобретал – то устройство для автоматического переворачивания шашлыков, то вилку для запекания бараньего бока… Что отличает гения от талантливого специалиста?
«Парадоксальность мышления» – ответили мне тогда его младшие коллеги из конструкторско-оружейного центра производственного объединения «Ижмаш» (Ныне – концерн «Калашников» – Г.С.). Два начальника конструкторских бюро, Валерий Паранин и Юрий Широбоков, сказали следующее: «Его голова работает немного не так, как у нормальных людей, – он, казалось бы, в самом обыкновенном видит то, чего не видят другие. Вроде бы сидим и думаем одинаково над каким-нибудь узлом или деталью. А потом ему придет в голову такое, что никак не могло прийти в головы нам, потому что в этом направлении мы даже и не думали! Ему, когда он создавал свой автомат, нужно было, например, решить задачу – сделать так, чтобы песок и грязь не проникали внутрь. Как эту проблему решали все остальные конструкторы? Старались подогнать детали так, чтобы не оставалось зазоров. И что сделал Калашников? Оставил под подвижными частями свободное пространство – в результате чего грязь вываливалась сама по себе. То есть подошел к проблеме совсем с другой стороны».
…По закону жанра в этом месте мне следовало бы написать что-нибудь типа: «И с тех пор, когда какая-нибудь сложная задача никак не решается в моей голове, я вспоминала этот пример и думала про парадоксальность мышления. И все у меня получалось!»
Увы, это было не так. Не получалось. Потому что даже зная формулу гения, стать гением невозможно.
Гении такого уровня, как Калашников, вообще появляются на планете нечасто.
Самое обидное – что никто не может предсказать, где именно он появится на свет в следующий раз.
Ну, а нам, россиянам, повезло уже хотя бы в том, что он родился у нас. И 94 года жил рядом».
Ловушка для удава
Гением стать невозможно, но можно хотя бы попробовать выйти за рамки стандарта. Рассказываю.
Однажды мне предстояло взять интервью у олигарха Бориса Березовского. К началу нулевых он уже жил в Лондоне, но по-прежнему был владельцем «Коммерсанта» иОРТ и тешил себя надеждами на скорое и триумфальное возвращение в Москву. Буквально за несколько дней до моего приезда он выиграл в столице Британии суд по поводу своей экстрадиции в Россию и слегка попаясничал перед журналистами, натянув на себя маску эльфа Добби из «Властелина колец», намекая на его схожесть с российским президентом.
Я взяла билет на самолет и начала названивать его секретарше. Как же мне повезло: Борис Абрамович все время откладывал встречу, в результате чего я провела в Лондоне вместо трех дней целых две недели. Не только по музеям, конечно, ходила – параллельно набирала материал для другой серьезной темы – и все звонила, звонила…
Зато у меня было время основательно подготовиться. Березовский, на минуточку, был доктором физико-математических наук. В наложении на его подвешенный язык и страсть к политическим интригам смесь получалась адская. Был шанс провалить интервью на раз. Это я поняла, ознакомившись с трудами моих многочисленных предшественников: они заходили в кабинет, попадали под гипноз его обаяния и начинали вести себя как кролики перед удавом. Надо было придумать нестандартный ход.
Изначально мы договаривались, что я приду к нему домой на ужин. Поместье подробнее рассмотрю, с женой, может, мило поболтаю (наивная я! – Г.С.). Потом Борис Абрамович сказал: нет, лучше пообедаем в испанском ресторане около офиса. Потом опять все переиграл – нет, говорит, лучше приходите в мой офис. Где я прождала его наверное еще часа три, вместе с покойным Сергеем Доренко, который с каменным лицом сидел в предбаннике, выбивая из БАБа (прозвище Бориса Абрамовича Березовского, составленное из первых букв имени, отчества и фамилии- Г.С.) какой-то свой недовыплаченный гонорар. И когда я, в конце концов, попала в кабинет, я на Березовского … наехала!
Без перегибов, конечно – тут нужно чувствовать грань, чтоб не вылететьс интервью на второй минуте. Я его строго отчитала за то, что он меня не накормил, обманул, не позвав домой и не уделил должного внимания. Он заинтересовался: журналистки с ним в основном кокетничали, а журналисты приседали в благоговении – мало кто способен выдержать магию больших денег. Я реально много раз наблюдала, как сильные и вполне состоявшиеся мужчины при встрече с олигархом начинали трястись. Деньги – это гипноз, который превращает людей в кроликов. Готовясь к интервью и изучая психологический типаж героя по его предыдущим беседам, я легко убедилась в том, что оба варианта – не выход. И выбрала для себя другую роль.
«Вы думаете, я рвалась к вам в дом, чтобы проверить, есть ли пыль на вашем комоде? Нет! Я хотела посмотреть, в каком сундуке вы прячете маску Добби?». «А я ее на работе храню, а не дома», – несколько опешив, ответил он, открывая ящик стола. «Ну так надевайте тогда» – строго велела я. Он, как загипнотизированный, достал маску, натянул на голову, я его сфотографировала. Потом примерила эту маску сама и попросила его сделать снимок. Что нам это дало? Подпись под публикацией: «Фото Б.Березовского» и официальное приглашение заскочить в редакцию, чтобы получить гонорар. Мило.
Этот прием – когда именно вы становитесь режиссером интервью, а не ваш собеседник – называется «Принципом перетягивания каната».
Но главное здесь даже не это. Борису Абрамовичу стало интересно. И после этого все у нас с ним было просто, как игра в пинг-понг. Хватает он вдруг, допустим, в середине нашего интервью блокнот и начинает что-то записывать. «Вы, наверное, пишете мемуары?» – вежливо спрашиваю я его. Ну, это же естественно – если человеку под 60 лет, он эмигрировал, не смог реализовать задуманное и мечется между хандрой и ностальгией – работать над мемуарами. «Галина, у вас суперспособности, вы меня видите насквозь! Мою первую жену тоже звали Галина и она тоже меня считывала!…» Ну и так далее. То есть, это уже я с ним играла, а не он со мной. В итоге получилось блестящее, без ложной скромности, интервью, за которое до сих пор не стыдно.
После публикации ко мне хороводом пошли с расспросами наши редакционные девушки-журналистки с вопросом: «Как тебе это удалось?» А как вы думаете? – спрашивала я их. Ответы поражали провинциальной банальностью: «Ну, я бы надела юбку покороче, накрасилась…» Послушайте, мне тогда было 38 лет! Какая юбка покороче, если Борис Абрамович имел красавицу-жену и, по слухам, интересовался исключительно нимфетками? Вот пришла я вся такая почти сорокалетняя в короткой юбке, одетая точно не от Дольче и Габбана – и дальше-то что? Это – один из самых дешевых и неэффективных поведенческих штампов. Заинтересовать умного собеседника можно только мозгами. Готовьтесь: годы тренировок уйдут на то, чтобы научиться делать это автоматически.
И еще об интервью, как методе и как жанре.
Не надо думать, что вам обязательно повезет и в собеседники достанется харизматичный герой, который будет говорить отточенными фразами. Такое встречается, но нечасто. Из моего опыта это только первый президент новой Эстонской республики, писатель и интеллектуал Леннарт Мери – про него журналисты шутили: он говорит такими выверенными фразами и так медленно, что можно не только успеть записать в блокнот его речь, но и расставить запятые.
С умными, допустим, все понятно: их надо заинтересовать. Есть, конечно, самый распространенный прием, действующий всегда и безотказно: изобразить дурочку (как вариант: честно предупредить у порога, что вы в предмете ничего не понимаете, потому будете задавать глупые вопросы – Г.С.). Как правило, собеседника это подкупает. Особенно если вы – студентка журфака, вам 20 лет и ко всему этому прилагаются широко распахнутые глаза и длинные ресницы. Метод себя оправдывает, но только по молодости. Если дурацкие вопросы задает взрослый журналист – ничего, кроме раздражения, это вызвать не может.
Представьте, я в таких ситуациях тоже бывала, и не раз. Был у нашего блестящего и увы, безвременно ушедшего из жизни главреда «КП» Владимир Николаевича Сунгоркина такой прикол: бросать сотрудника на незнакомый фронт. Это давало определенный эффект: из редакторов отдела информации получались отменные международники, а из спортивных журналистов – редактора отделов культуры. Но вот когда меня – человека, не имеющего никакого отношения к экономике, отправили на интервью к заместителю министра финансов Сергею Сторчаку – это было что-то с чем-то… Придумать вопросы-то и правильно их сформулировать я еще, допустим, смогла. Но как срочно научиться грамотно реагировать на ответы?!
К счастью, мой собеседник оказался человеком умным и терпеливым.Он сразу распознал, в чем интрига, да я, впрочем, ничего и не скрывала. И нам обоим сразу же стало легче. Подаренную им книжку, я, винюсь, так и не прочитала – такому читателю, как я, она с первого абзаца обеспечивалаздоровый сон. Но это был очень хороший опыт. Интервью получилось живым, и подвоха никто (надеюсь) не заметил.
А вот пример неудачного интервью: как-то в середине 90-х, еще в пору своей собкоровской молодости, я провалила беседу с актером Игорем Костолевским, который приехал в Таллин на гастроли. Это было в практике: ловить знаменитостей не в Москве, а на выезде и таким образом обеспечивать себе строкаж, а им – дополнительную рекламу. На интервью он согласился, но с явным нежеланием. Было лето,мы сидели на лавочке возле отеля. Ему было скучно, а мне горько – две недели назад умер мой отец и думать я могла в тот момент только об этом, скучно проговаривая заготовленные заранее вопросы типа: «Вы всю жизнь женаты на одной актрисе?»
«Да. Женат. И должен оправдываться?» - вяло огрызался он (Спустя пару-тройку лет он, кстати, развелся, так что тут я его брак немножко «сглазила» – Г.С.).
Я краснела от стыда за свою убогость. А нужно было просто быть искренней и рассказать, ему о том, о чем я думаю. О своем отце. В ответ на откровенность с моей стороны наверняка последовала бы откровенность с его. Ну или хотя бы сочувствие. Или, наоборот, полное его отсутствие. И интервью было бы небанальным. Но я промолчала. И зря.
В том же городе Таллине случился еще один забавный сюжет. Мне заказали интервью с прекрасным актером Лембитом Ульфсаком, который сыграл в театре и кино много ролей, но для меня прежде всего был Тилем Уленшпигелем. Я так красиво все придумала! Как я задумчиво пойду по Старому Городу, держа в руках гладиолус – средневековая Фландрия мне почему-то представлялась именно такой. Звоню, представляюсь: так, мол, и так, меня зовут Галина Сапожникова.
– Как! – почти кричит он в трубку! Вы? В Таллине? Не может быть? Хотя… Сколько вам лет?
Я опешила. Оказалось, у меня была полная тезка, тоже Галина и тоже Сапожникова, в которую он по молодости лет был страшно влюблен и которую у него увел кинорежиссер Станислав Говорухин.
Интервью Лембит Ульфсак мне, конечно, дал, но чувствовалось, что был несколько разочарован… Но здесь уж, извините, журналистское мастерство было ни при чем.
Нужно ли заверять текст?
Это будет самая короткая главка. И начинаться она будет с фразы:
«Однажды у меня самой взяли интервью»… Ну, вы поняли, что я пережила, перечитывая текст?
Люди слышат совсем не то, что им говорят. Люди говорят совсем не то, что хотели сказать. Результатом становится абсолютный ужас.
Поэтому лично для меня это абсолютно не оскорбительно: дать собеседнику возможность вычитать текст. В этом нет никакого унижения.
Что бывает дальше? Вариантов несколько: человек со всем соглашается (чего не случается почти никогда). Или с точностью до наоборот: человек ни с чем не соглашается и все переписывает казенным языком своей собственной рукой, вычеркивая из текста самые «вкусные» места.
Если он вам друг – будет один расклад, если враг – другой, если ни второе и ни первое – третий. Обсудим это в главе про психологические приемы в журналистике.
Вынос: Три самых важных правила журналистики: «Факт свят – комментарий свободен», «Должно быть минимум два мнения, а лучше три», «В любом конфликте виноваты двое, потому обязательно следует опросить противоположные стороны»
*Слова из песенки военных корреспондентов (текст Константина Симонова): «С “лейкой” и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужи мы прошли. Выпить есть нам повод за военный провод…» И так далее.
**
Журналист, писатель
(отрывки из книги)







В КАКИХ КУСТАХ ИСКАТЬ РОЯЛЬ?
Путеводитель по практической журналистике
Путеводитель по практической журналистике