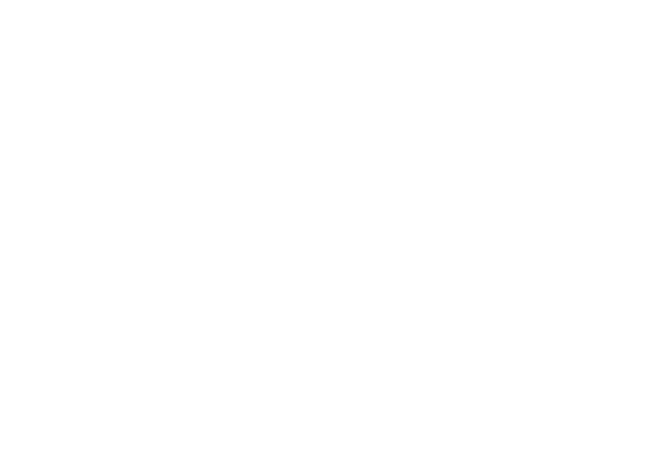Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Родился на Урале в 1964 г. Окончил школу в Северном Казахстане. Получил высшее образование в Челябинском университете. Работал на Сахалине, В Сибири, на Урале, в Казахстане. Писать начал в 25 лет. Написано очень мало. В прошлом промысловик из Сибири. Сейчас живет на Урале. Отец двух дочерей.
**
Это случилось в самом начале моей охотничьей карьеры, когда я начал охотиться в тайге один. Заехал я тогда на участок со своей собакой.
Стояла поздняя осень, стойко стояла — не ломалась в зиму, упиралась изо всех сил, но, понимая неизбежность своей грядущей кончины и полную обречённость, ночами начинала сдаваться. Слабела и с каждым днём брала передышку всё раньше и раньше. Всё холоднее и холоднее становилось ближе к закату. Морозцы стали крепче, а ночи длиннее, словно специально давая осени больше времени на ночной сон и отдых. Мол — на, попробуй, наберись сил, и мы сразимся: я, молодая и дерзкая зима, и ты — дряхлеющая и увядающая осень. И осень гордо принимала вызов, старалась, как могла. С первыми лучами утреннего, скупенького уже, солнышка осень забирала на день свои права. Лист и хвоя под ногами отходили от хруста, отволаживались и отдыхали от ночной судороги и скованности. Осень прихорашивалась и опять начинала верить в свои силы и красоту. Но той былой багряности и жгучей рыжины уже не было. Не было роскошной яркой дури, огня… Это было уже даже и не бабье лето, осень сдавалась, угасал её огонёчек…
А тайга тем временем закалялась перед лютой зимой, готовилась ко сну, но не застилалась пока. Почти разделась, но не ложилась ещё, не укрывалась. Нечем было. Снега почти не было — первый стаял. Он остался где-то на северных склонах хребтов, в тени, под скалами и выворотнями, в тёмных и непролазных поймах речек. Но это совсем не тот снег, которым можно укрыть и укутать тайгу-матушку. Она ждала пуховую перину и ватное одеяло, подбитое метелью, чтобы запечататься, не оставив ни одной щёлочки и ни одной лазейки для морозов и сквозняков. Ей надо было сберечь себя и своих обитателей. Сохранить всех: и кедровый орешек, и бурого медведя. Она и ждала. Своего времени.
Вот в один из таких солнечных осенних дней я белковал по молодым кедровникам со своей собакой. Далеко уходить не старался, да и незачем было. Белки в тот год было много, собака очень быстро находила следующего зверька и почти не умолкала. Время бежало быстро. В горах день короток, стоит только коснуться солнышку вершин деревьев или гор — всё, начинается обратный отсчёт, и время уже не летит, у него, как у осени, уже нет сил, сразу наступает ночь. Темнота падает, как чёрный занавес или штора.
Так бывает с возрастом. Как же медленно шло время на школьном уроке: я смотрел на секундную стрелку отцовских часов и казалось, что она движется очень медленно, минутная была почти неподвижной, назначение часовой я не понимал вообще. Спустя годы время пошло заметней. Не часы летели, летели листы перекидного календаря. За ними годы обезьян, драконов, лошадей, петухов… и складывались в комод сами календари. А потом наступит момент, когда время скажет: «Всё, я устало, я не смогу с тобой дальше идти, прости, я вынуждено остановиться. Если сможешь — иди дальше один. Меня больше нет».
Вот так его не стало тогда, в горах, на той самой беличьей охоте.
Спохватился я, когда присел отдохнуть и убрал очередного зверька в рюкзак. Появилась тревога, что я закрутился и упустил контроль за временем и местностью. Я не знал, где я, и тоскливо смотрел то на небо, то на свои ноги, обутые в кроссовки. Одет я был очень легко и совсем не рассчитывал на позднее возвращение. Я был не готов встречать в тайге ночь, а может быть, и не одну; снова рассматривал свои ноги, уже сырые, и отчётливо понимал, что очень легкомысленно поступил, выходя утром на охоту в такой одежде и наивно надеясь на лёгкую и тёплую осеннюю прогулку с собачкой и ружьишком. Когда и в каком месте я увлёкся и упустил время? Где я нахожусь? Что меня ожидает?
Я задавал себе эти вопросы, и ответ был только один — не знаю. Ничего не знаю. Не помню, не хочу вспоминать. Я брёл. Шёл в надежде, что вот сейчас натолкнусь на знакомую местность и выйду на знакомую тропу, которая приведёт меня в тепло. Но местность была неузнаваема, и тропа в тепло не попадалась, а по башлыку тем временем застучала редкая крупа. Ночь меня не боялась и не бросала вызов, как достойному сопернику, она просто распахивала свои объятия, ждала, звала, подмигивая появившимися звёздами. Где присядешь, гость дорогой? Где приляжешь? А присесть было негде. Топора нет, одет легко и почти промок. Да ещё этот чёрный осинник вокруг, сырой и мрачный, который и захочешь разжечь, да не сможешь. Надо было из него как-то выбираться. Быстро темнело и холодало, и начинали мерзнуть руки. Собака понимала, что наша охота закончилась. Смотрела на меня, ждала, но домой не вела. Она не знала команду «веди меня в избушку, я заблудился». Собака предана хозяину и будет с ним идти, куда бы он ни шёл. И она шла, ложилась рядом, когда я садился на колодину, и поднималась, когда начинал идти дальше, в никуда. Зачем? Я не знал сам. Просто мог идти. И мы шли. Может быть, я не знал, что мне делать. Может быть, не умел. А идти я умел и шёл, не разбирая пути и направления, и какое может быть направление у человека, который почти потерял волю сопротивляться и оценивать своё, уже бедственное, положение. До безразличия оставались считанные часы.
Крупа переходила в снег, которым управлял ветер, направляя его то в лицо, то в правую, то в левую щеку, но только не в спину, заставляя жмуриться и отворачиваться. Ружьё казалось лишним, и в голове не было мыслей о кедровом выворотне, под которым можно разжечь огонь и обогреться, высушив обувь, если это в тайге можно назвать обувью, высушить одежду и напиться горячего чаю. Мыслей вообще не было, и я просто шёл. Сколько шёл, не знаю. Наверное, долго. Было совсем темно, а я шёл и шёл, натыкаясь в темноте на сучья, запинаясь о колодины и поваленные деревья. Это выматывало, и сил оставалось всё меньше на бестолковую ходьбу. Я выстрелил. Выстрелил, подняв ружьё вверх. Подождал и выстрелил ещё раз.
Собака ожила, но не поняла мою пустую стрельбу. А потом я стрелял ещё и ещё. Потом куда-то шёл и опять стрелял. Кто меня тогда водил по тайге, я не знаю. Может быть, леший, может, Добрый Дух Тайги. Я думаю, что это был он — Добрый Дух, потому что в какой-то момент мне показалось, что я услышал шум машины. Но никакой машины тут быть не могло, я был далеко за рекой, и сюда машины не могут приехать. Даже когда замёрзнет река. Никогда. Собака сидела рядом со мной и смотрела в ту сторону, откуда мне послышался шум машины. И я опять стрелял. Машина?! Нет, не машина, но собака смотрела точно в сторону доносившегося шума. И тогда я ещё отчетливей услышал этот шум.
Сомнения развеялись и появились силы. Откуда? Умная моя собака, мои глаза и уши, и я обнял её за морду, которую ещё совсем недавно считал глупой и бестолковой за то, что не может меня вести домой. Слепой и запинающийся, падающий, я почти бежал. Не помню, сколько времени заняла эта то ли скачка, то ли бег с препятствиями, но звук становился всё ближе и ближе. А потом я увидел через деревья мерцающий свет. Это была керосиновая лампа «летучая мышь» — её далеко видно. Лампа на чём-то висела, а под лампой стоял человек с бензопилой. Вот под цепь этой бензопилы я едва не влетел на радостях. Худощавый мужик заглушил пилу, снял с гвоздя лампу и внимательно посмотрел на меня. Остановил взгляд на моей обуви и ещё раз осмотрел меня, пристально вглядываясь в лицо.
— Проходите, — он толкнул рукой дверь вагончика и пропустил меня первым.
Я вошёл в натопленное и обжитое, повесил ружьё на первый попавшийся гвоздь и присел на деревянные нары. Мужик мне подал обрезанные валенки и выгоревшие при длительной носке штаны от энцефалитки. Я снимал с себя мокрые кроссовки и шерстяные носки со скрипом. Мужик внимательно рассматривал мои белые с синими венами ноги и качал головой. Я их растирал двумя руками, и тепло быстро растекалось по телу. Он повесил мои штаны, рубашку и штормовку на гвозди у печи. Одежда парила. Все было мокрое. Сидя за столом в сухой одежде, я ел суп с мясом и грибами, ломая свежеиспечённый хлеб. Потом пили чай с ягодой и листом, а я ему рассказывал, как охочусь и какая у меня собака, какое у меня ружьё и что я буду делать дальше. В общем, все свои планы и намерения.
Он почти ничего не говорил и внимательно слушал, слушал всё, что я рассказывал. Иногда улыбался, очень приветливо и по-доброму. Казалось, собран он был из каких-то кусков старого, ржавого железа неумелым слесарем, который, завершая работу, вставил ему для украшения жёлтые карандашики вместо зубов. Вот только его лицо досталось другому мастеру, оно было как будто вымощено ладошками старика или подушечками пальцев старого портного. И по этому лицу были разбросаны серебряные опилки. Все это двигалось и управлялось с чашками и ложками. Казалось, он вообще не умеет возражать и спорить, умеет только слушать и наслаждаться моими словами.
— Собаку покормите, — он подал мне чашку с сухарями, залитыми бульоном.
Иногда во время моих рассказов мне казалось, что он меня с любопытством изучает, как какой-то сувенир или редкую находку, а я продолжал рассказывать. Рассказывал о том, что здесь в глуши много пьют и не умеют проводить свободное время, не умеют нормально, как в городе, отдыхать и радоваться жизни. Он опять улыбнулся:
— Да, радоваться и отдыхать по-ихнему мы не умеем, мы только плакать по-нашему научились.
Потом, сытый, я быстро уснул в тепле.
Снег шёл всю ночь.
Утром, одетый в тёплую одежду и болотные сапоги, я стоял на дороге и прощался с мужиком. Он мне коротко объяснил, как правильно дойти до моей избы и что ему ещё неделю нужно охранять технику и оборудование артели, пока его не сменит другой сторож. И так до весны.
— Это хорошо, что ты вчера задумал пилить дрова, выручила твоя пила.
— Да я и не пилил дрова. Я слышу, что стреляет кто-то, да шибко так. Думаю, заблудился, поди. Темно же уже было, и снег пошёл. Думаю, беда. Патронов пять штук у меня всего, а бензина две цистерны. Вот я и стоял, шумел пилой, пока вы не вышли. Её ведь далеко слышно, пилу-то. Услышали же? А так-то, уже было собираться начал.
И я ушёл, а тот мужик с бензопилой остался. Он мне так и запомнился с бензопилой в руках. Стоя в снежной кутерьме, он подавал знак. Человек подавал знак человеку.
Вот так, в одну ночь, закончилась осень и началась зима. Пришло её время. Пришло быстро, накрыло, как штора, как занавес, только теперь уже белый.
**
**
Это случилось в самом начале моей охотничьей карьеры, когда я начал охотиться в тайге один. Заехал я тогда на участок со своей собакой.
Стояла поздняя осень, стойко стояла — не ломалась в зиму, упиралась изо всех сил, но, понимая неизбежность своей грядущей кончины и полную обречённость, ночами начинала сдаваться. Слабела и с каждым днём брала передышку всё раньше и раньше. Всё холоднее и холоднее становилось ближе к закату. Морозцы стали крепче, а ночи длиннее, словно специально давая осени больше времени на ночной сон и отдых. Мол — на, попробуй, наберись сил, и мы сразимся: я, молодая и дерзкая зима, и ты — дряхлеющая и увядающая осень. И осень гордо принимала вызов, старалась, как могла. С первыми лучами утреннего, скупенького уже, солнышка осень забирала на день свои права. Лист и хвоя под ногами отходили от хруста, отволаживались и отдыхали от ночной судороги и скованности. Осень прихорашивалась и опять начинала верить в свои силы и красоту. Но той былой багряности и жгучей рыжины уже не было. Не было роскошной яркой дури, огня… Это было уже даже и не бабье лето, осень сдавалась, угасал её огонёчек…
А тайга тем временем закалялась перед лютой зимой, готовилась ко сну, но не застилалась пока. Почти разделась, но не ложилась ещё, не укрывалась. Нечем было. Снега почти не было — первый стаял. Он остался где-то на северных склонах хребтов, в тени, под скалами и выворотнями, в тёмных и непролазных поймах речек. Но это совсем не тот снег, которым можно укрыть и укутать тайгу-матушку. Она ждала пуховую перину и ватное одеяло, подбитое метелью, чтобы запечататься, не оставив ни одной щёлочки и ни одной лазейки для морозов и сквозняков. Ей надо было сберечь себя и своих обитателей. Сохранить всех: и кедровый орешек, и бурого медведя. Она и ждала. Своего времени.
Вот в один из таких солнечных осенних дней я белковал по молодым кедровникам со своей собакой. Далеко уходить не старался, да и незачем было. Белки в тот год было много, собака очень быстро находила следующего зверька и почти не умолкала. Время бежало быстро. В горах день короток, стоит только коснуться солнышку вершин деревьев или гор — всё, начинается обратный отсчёт, и время уже не летит, у него, как у осени, уже нет сил, сразу наступает ночь. Темнота падает, как чёрный занавес или штора.
Так бывает с возрастом. Как же медленно шло время на школьном уроке: я смотрел на секундную стрелку отцовских часов и казалось, что она движется очень медленно, минутная была почти неподвижной, назначение часовой я не понимал вообще. Спустя годы время пошло заметней. Не часы летели, летели листы перекидного календаря. За ними годы обезьян, драконов, лошадей, петухов… и складывались в комод сами календари. А потом наступит момент, когда время скажет: «Всё, я устало, я не смогу с тобой дальше идти, прости, я вынуждено остановиться. Если сможешь — иди дальше один. Меня больше нет».
Вот так его не стало тогда, в горах, на той самой беличьей охоте.
Спохватился я, когда присел отдохнуть и убрал очередного зверька в рюкзак. Появилась тревога, что я закрутился и упустил контроль за временем и местностью. Я не знал, где я, и тоскливо смотрел то на небо, то на свои ноги, обутые в кроссовки. Одет я был очень легко и совсем не рассчитывал на позднее возвращение. Я был не готов встречать в тайге ночь, а может быть, и не одну; снова рассматривал свои ноги, уже сырые, и отчётливо понимал, что очень легкомысленно поступил, выходя утром на охоту в такой одежде и наивно надеясь на лёгкую и тёплую осеннюю прогулку с собачкой и ружьишком. Когда и в каком месте я увлёкся и упустил время? Где я нахожусь? Что меня ожидает?
Я задавал себе эти вопросы, и ответ был только один — не знаю. Ничего не знаю. Не помню, не хочу вспоминать. Я брёл. Шёл в надежде, что вот сейчас натолкнусь на знакомую местность и выйду на знакомую тропу, которая приведёт меня в тепло. Но местность была неузнаваема, и тропа в тепло не попадалась, а по башлыку тем временем застучала редкая крупа. Ночь меня не боялась и не бросала вызов, как достойному сопернику, она просто распахивала свои объятия, ждала, звала, подмигивая появившимися звёздами. Где присядешь, гость дорогой? Где приляжешь? А присесть было негде. Топора нет, одет легко и почти промок. Да ещё этот чёрный осинник вокруг, сырой и мрачный, который и захочешь разжечь, да не сможешь. Надо было из него как-то выбираться. Быстро темнело и холодало, и начинали мерзнуть руки. Собака понимала, что наша охота закончилась. Смотрела на меня, ждала, но домой не вела. Она не знала команду «веди меня в избушку, я заблудился». Собака предана хозяину и будет с ним идти, куда бы он ни шёл. И она шла, ложилась рядом, когда я садился на колодину, и поднималась, когда начинал идти дальше, в никуда. Зачем? Я не знал сам. Просто мог идти. И мы шли. Может быть, я не знал, что мне делать. Может быть, не умел. А идти я умел и шёл, не разбирая пути и направления, и какое может быть направление у человека, который почти потерял волю сопротивляться и оценивать своё, уже бедственное, положение. До безразличия оставались считанные часы.
Крупа переходила в снег, которым управлял ветер, направляя его то в лицо, то в правую, то в левую щеку, но только не в спину, заставляя жмуриться и отворачиваться. Ружьё казалось лишним, и в голове не было мыслей о кедровом выворотне, под которым можно разжечь огонь и обогреться, высушив обувь, если это в тайге можно назвать обувью, высушить одежду и напиться горячего чаю. Мыслей вообще не было, и я просто шёл. Сколько шёл, не знаю. Наверное, долго. Было совсем темно, а я шёл и шёл, натыкаясь в темноте на сучья, запинаясь о колодины и поваленные деревья. Это выматывало, и сил оставалось всё меньше на бестолковую ходьбу. Я выстрелил. Выстрелил, подняв ружьё вверх. Подождал и выстрелил ещё раз.
Собака ожила, но не поняла мою пустую стрельбу. А потом я стрелял ещё и ещё. Потом куда-то шёл и опять стрелял. Кто меня тогда водил по тайге, я не знаю. Может быть, леший, может, Добрый Дух Тайги. Я думаю, что это был он — Добрый Дух, потому что в какой-то момент мне показалось, что я услышал шум машины. Но никакой машины тут быть не могло, я был далеко за рекой, и сюда машины не могут приехать. Даже когда замёрзнет река. Никогда. Собака сидела рядом со мной и смотрела в ту сторону, откуда мне послышался шум машины. И я опять стрелял. Машина?! Нет, не машина, но собака смотрела точно в сторону доносившегося шума. И тогда я ещё отчетливей услышал этот шум.
Сомнения развеялись и появились силы. Откуда? Умная моя собака, мои глаза и уши, и я обнял её за морду, которую ещё совсем недавно считал глупой и бестолковой за то, что не может меня вести домой. Слепой и запинающийся, падающий, я почти бежал. Не помню, сколько времени заняла эта то ли скачка, то ли бег с препятствиями, но звук становился всё ближе и ближе. А потом я увидел через деревья мерцающий свет. Это была керосиновая лампа «летучая мышь» — её далеко видно. Лампа на чём-то висела, а под лампой стоял человек с бензопилой. Вот под цепь этой бензопилы я едва не влетел на радостях. Худощавый мужик заглушил пилу, снял с гвоздя лампу и внимательно посмотрел на меня. Остановил взгляд на моей обуви и ещё раз осмотрел меня, пристально вглядываясь в лицо.
— Проходите, — он толкнул рукой дверь вагончика и пропустил меня первым.
Я вошёл в натопленное и обжитое, повесил ружьё на первый попавшийся гвоздь и присел на деревянные нары. Мужик мне подал обрезанные валенки и выгоревшие при длительной носке штаны от энцефалитки. Я снимал с себя мокрые кроссовки и шерстяные носки со скрипом. Мужик внимательно рассматривал мои белые с синими венами ноги и качал головой. Я их растирал двумя руками, и тепло быстро растекалось по телу. Он повесил мои штаны, рубашку и штормовку на гвозди у печи. Одежда парила. Все было мокрое. Сидя за столом в сухой одежде, я ел суп с мясом и грибами, ломая свежеиспечённый хлеб. Потом пили чай с ягодой и листом, а я ему рассказывал, как охочусь и какая у меня собака, какое у меня ружьё и что я буду делать дальше. В общем, все свои планы и намерения.
Он почти ничего не говорил и внимательно слушал, слушал всё, что я рассказывал. Иногда улыбался, очень приветливо и по-доброму. Казалось, собран он был из каких-то кусков старого, ржавого железа неумелым слесарем, который, завершая работу, вставил ему для украшения жёлтые карандашики вместо зубов. Вот только его лицо досталось другому мастеру, оно было как будто вымощено ладошками старика или подушечками пальцев старого портного. И по этому лицу были разбросаны серебряные опилки. Все это двигалось и управлялось с чашками и ложками. Казалось, он вообще не умеет возражать и спорить, умеет только слушать и наслаждаться моими словами.
— Собаку покормите, — он подал мне чашку с сухарями, залитыми бульоном.
Иногда во время моих рассказов мне казалось, что он меня с любопытством изучает, как какой-то сувенир или редкую находку, а я продолжал рассказывать. Рассказывал о том, что здесь в глуши много пьют и не умеют проводить свободное время, не умеют нормально, как в городе, отдыхать и радоваться жизни. Он опять улыбнулся:
— Да, радоваться и отдыхать по-ихнему мы не умеем, мы только плакать по-нашему научились.
Потом, сытый, я быстро уснул в тепле.
Снег шёл всю ночь.
Утром, одетый в тёплую одежду и болотные сапоги, я стоял на дороге и прощался с мужиком. Он мне коротко объяснил, как правильно дойти до моей избы и что ему ещё неделю нужно охранять технику и оборудование артели, пока его не сменит другой сторож. И так до весны.
— Это хорошо, что ты вчера задумал пилить дрова, выручила твоя пила.
— Да я и не пилил дрова. Я слышу, что стреляет кто-то, да шибко так. Думаю, заблудился, поди. Темно же уже было, и снег пошёл. Думаю, беда. Патронов пять штук у меня всего, а бензина две цистерны. Вот я и стоял, шумел пилой, пока вы не вышли. Её ведь далеко слышно, пилу-то. Услышали же? А так-то, уже было собираться начал.
И я ушёл, а тот мужик с бензопилой остался. Он мне так и запомнился с бензопилой в руках. Стоя в снежной кутерьме, он подавал знак. Человек подавал знак человеку.
Вот так, в одну ночь, закончилась осень и началась зима. Пришло её время. Пришло быстро, накрыло, как штора, как занавес, только теперь уже белый.
**
Сергей Шиянов (Россия, Екатеринбург)
Знак человека
Знак человека

ПРОЗА