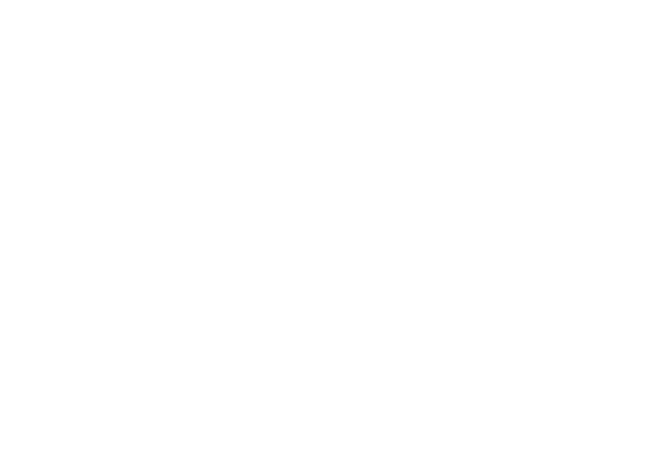Обратная связь
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ
Кто в молодости не влюблялся, пылко обожествляя не столько даже саму женщину, сколько собственное чувство? Не избежал этой общей участи и Александр Дюма-сын.
Ему было двадцать лет. Незаконнорожденный, хотя и официально признанный сын великого отца и внук наполеоновского генерала Александра-Тома Дюма, маркиза Дави де ла Пайетри, он жаждал, во-первых, вопреки сомнительному происхождению, вписаться в парижский истеблишмент, а во-вторых, доказать, что природе вовсе не обязательно отдыхать на детях гениев. Первое ему удалось несомненно, однако превзойти славой автора «Трёх мушкетеров» так и не получилось, хотя прочное положение в литературе Дюма-сын уверенно занял. Впрочем, это всё потом, потом… А пока он вот уже два года понемногу публиковал в столичных журналах стихи, встречаемые вполне одобрительно — первые, но твёрдые шаги к цели.
Тут-то его и настиг un coup de foudre, как говорят французы, — удар молнии. В театре он увидел красавицу — и влюбился без памяти. Дюма-отец так описывал её: «В ложе сидела прелестная молодая женщина лет двадцати двух — двадцати трёх. [Он ошибся: ей было всего двадцать — похоже, она выглядела чуть старше своих лет. — А.Б.] Высокая, очень изящная брюнетка с бело-розовой кожей, <…> продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как у японок, только смотрели живо и гордо; у неё были красные, словно вишни, губы и прелестнейшие на свете зубки. Она напоминала статуэтку из саксонского фарфора».
По воспоминаниям современников, она обладала несравненным обаянием, была очень изящна, почти худа, но при этом удивительно грациозна. Где бы она ни появлялась, в руках у неё всегда был букетик камелий — за это пристрастие её и прозвали «дамой с камелиями». Цветы эти, замечу, были выбором не столько эстетическим, сколько физиологическим: страдающую от чахотки — то бишь туберкулёза — молодую женщину пахучие цветы ввергали в приступы кашля, аромат роз или гиацинтов вызывал у неё головокружение, зато с почти лишёнными запаха камелиями она не расставалась; впрочем, отец и сын Дюма об этом тогда не подозревали.
Позволю себе представить вам эту очаровательную незнакомку. Звали её Мари Дюплесси. Впрочем, имя это она себе присвоила для большей благозвучности. В действительности была она фермерской дочкой по имени Альфонсина Плесси (самовольно добавленную к фамилии приставку «дю» она оправдывала происхождением своей бабки из дворянской семьи, а что обедневшей и давным-давно утратившей сословные права — дело десятое). Перебравшись из провинции в столицу, шестнадцатилетняя Альфонсина недолгое время проработала модисткой, но быстро поняла, что с трудов праведных не наживёшь палат каменных. И тогда выбрала стезю куртизанки или, проще говоря, содержанки.
Начало её карьере в этом полупочтенном качестве положил некий ресторатор, но вскоре, умело выбирая места для прогулок, она свела знакомство с герцогом де Гишем. С тех пор жизнь её кардинально изменилась: днём прогулки в экипаже, вечером опера или театр, а затем романтические встречи с мужчинами. В их числе были виконт де Мериль, от которого она родила ребёнка; сын префекта полиции, впоследствии известный литератор Эдуар Делессер; барон де Планси, Генрих де Контаде и другие. Щедрость герцога и прочих поклонников была достаточна, чтобы юная особа могла позволить себе тратить по сто тысяч франков в год.
Не получивши в детстве никакого образования, теперь Мари увлеклась литературой, весьма успешно училась музыке, приобрела изящные манеры и в итоге прослыла одной из самых элегантных куртизанок Парижа, соперничая с такими известными дамами полусвета, как Алиса Ози, Лола Монтес или Атала Бошен. Завсегдатаями её салона стали Эжен Сю, автор известнейших романов того времени «Парижские тайны» и «Вечный жид»; Роже де Бовуар (настоящее имя Эжен Огюст Роже де Булли), автор бессмертного романа «Шевалье де Сен-Жорж», выдержавшего (в то время!) семнадцать изданий, и, кстати, близкий друг Дюма-отца; Арсен Уссе — прозаик, поэт и критик, отец историка Анри Уссе; Альфред де Мюссе, а также многие другие популярные литераторы.
Казалось бы, что общего может быть у известной куртизанки и начинающего поэта, мечтающего стать одним из столпов общества? Что мог он ей предложить? Что она могла ему дать? Но — un coup de foudre! Любовь, как известно, хоть и не слепа, зато умело ослепляет…
Их роман длился не слишком долго — неполный год. И завершился письмом Дюма-сына, где, в частности, говорилось:
«Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить Вас, как хотелось бы <…> И потому давайте забудем оба: Вы — имя, которое Вам было, должно быть, почти безразлично; я — счастье, которое мне больше недоступно.
Бесполезно рассказывать Вам, как мне грустно, потому что Вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать Вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячью лучших воспоминаний…»
Никому не ведомо, какие чувства испытывала к Александру Дюма-младшему Альфонсина-Мари, хотя говорят, будто он принадлежал к тем немногим мужчинам, которые не оплачивали её услуг и пользовались полной взаимностью — то, что называется amant de coeur. Зато известно, что дважды она выходила замуж (оба брака закончились быстрыми разводами) — сперва за бывшего русского посла в Вене, шведского графа фон Штакельберга, а потом, 21 февраля 1846 года, — за сына швейцарского банкира, графа Эдуарда де Перрего. Правда, во Франции их брак не считался действительным, поскольку, заключённый в Лондоне, он не был утверждён французским консулом, что, замечу, не помешало Мари до самой смерти, последовавшей 5 февраля 1847 года, именовать себя графиней и украшать свою карету гербом.
Сочувствуя сыну и дабы отвлечь его от горьких мыслей, Дюма-отец увёз его в долгое путешествие по Испании, Алжиру и Тунису. По возвращении, в Марселе, куда они прибыли на следующий день после того, как в Тулоне сошли с борта пакетбота «Ориноко», их застала весть о кончине куртизанки. Дюма-сын поспешил в Париж, но поздно… Поздно.
Через несколько недель после смерти всё имущество Мари Дюплесси было распродано на аукционе, чтобы покрыть долги — ведь последние два года из-за болезни она не могла зарабатывать привычным способом. Подойдя к дому Мари, Александр-младший увидел объявление о распродаже имущества и поспешил туда. Событие это собрало народу не меньше, чем хорошая пьеса — среди присутствовавших оказался даже Чарлз Диккенс. Стеснённый, как всегда, в средствах, Дюма-сын смог выкупить лишь тонкую золотую цепочку, которую Мари постоянно носила на шее.
Через несколько месяцев Дюма-сын принёс отцу на чтение свой роман «Дама с камелиями», где создал образ Маргариты Готье — идеал любящей до самопожертвования женщины, стоящей несравненно выше осуждающего её света. Прототипом Маргариты, как вы легко можете догадаться, послужила Мари Дюплесси, а героя, Армана Дюваля — он сам.
Само собой, между романом и подлинной историей немалая разница. Начать с того, что Маргарита действительно любила своего Армана. Отец героя, в отличие от Дюма-отца, не только не поддерживал сына, но и стал злым разлучником. Арман же приобрёл у рассказчика-протагониста не золотую цепочку, а купленный на аукционе томик «Манон Леско».
На последнем стоит остановиться особо. «История кавалера де Грие и Манон Леско» — едва ли не первый в мировой литературе психологический роман, вышедший из-под пера одного из крупнейших французских писателей XVIII века аббата Антуана Франсуа Прево, добавившего к фамилии эпитет Ссыльный — Прево д’Экзиль. После первой публикации в 1731 году книга вызвала бурную дискуссию. Несмотря на последовавший цензурный запрет во Франции, она пользовалась популярностью и ходила в списках. Кстати, ею увлекался лицеист Пушкин — между прочим, герои «Капитанской дочки» получили свои имена потому, что выпущенное в Москве первое русское издание «Манон Леско» называлось «Нещастные приключения Машеньки Лесковой и кавалера Гринёва, сочинение батюшки Превота»… Приобретенная Арманом книга — своеобразный ключ, одновременно указывающий и на литературную традицию, и на резко разнящееся прочтение ситуации в XVIII и XIX веках.
Но вернёмся к роману Дюма-сына. Он сразу стал очень популярен, и по совету драматурга Пьера Сиродена Александр вскоре переделал его в пьесу. Дюма-отец одобрил её и собирался поставить в своём Историческом театре, но помешали события революции 1848 года. Наконец в 1850-м театр «Водевиль» принял пьесу к постановке. Но опять возникло препятствие: сюжет для того времени был слишком смел, и министр полиции Леон Фоше запретил постановку. Оба Дюма безрезультатно обращались к цензору де Бофору — увы, запрет остался в силе.
Госпожа Дош, которая должна была исполнять роль Маргариты, в своих хлопотах дошла до Луи-Наполеона. На одну из репетиций пришёл единоутробный брат принца-президента, герцог Морни, и потребовал для пьесы «свидетельство о морали», подписанное тремя знаменитыми писателями. Дюма-сын показал драму Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье, и те рекомендовали её к постановке. Но и это не помогло. Лишь после переворота 2 декабря Морни, сменивший Фоше, снял запрет на постановку. Таким образом, после упорной борьбы с цензурой пьеса впервые была представлена на сцене в 1852 году — и по праву вошла в золотой фонд мировой драматургии.
«Дама с камелиями» сумела совершить удивительный переворот в умах сначала парижан, а затем и европейцев вообще: «Оказывается, у камелий (как с лёгкой руки Дюма-сына стали называть дам полусвета), тоже есть душа, и эта душа способна на сильную и самоотверженную любовь! Оказывается, продажность — совсем не главное в их облике!». Впрочем, общественное мнение не слишком склонно к длительной героизации кого бы то ни было. Да и у камелий незамедлительно появились подражательницы рангом ниже — на смену держательницам салонов пришли Эллочки-Людоедки, наделённые алчностью и беспринципностью Манон Леско…
Впоследствии Джузеппе Верди создал на основе пьесы оперу «Травиата», премьера которой состоялась в венецианском театре «Ла Фениче» в 1853 году. В ХХ веке роман был неоднократно экранизирован, в том числе с великими Сарой Бернар и Гретой Гарбо в главной роли. Общее же число театральных постановок, опер, балетов и экранизаций достигает двух дюжин.
Однако между романом двадцатилетних Александра и Мари и романом, написанным Дюма-сыном перекинут мостик — стихотворение, написанное Дюма-сыном сразу по возвращении в Париж и считающееся одним из лучших (по крайней мере, самых известных) в его поэтическом наследии. Конечно, в нем есть и привкус ревнивой обиды — в чём повинен, например, граф де Перрего, вполне достойно похоронивший супругу и шедший за катафалком, проводить который собралось, кстати, немало народу?
Так что же ото всей этой истории дожило до наших дней? Любовь? Но ведь она отнюдь не стала для Дюма-сына ни единственной, ни главной в жизни — он был дважды женат, а въедливые биографы пишут ещё и о пяти любовницах, с которыми его связывали длительные романы. И если даже на склоне лет он признавался, что его браки были ошибкой, а единственной подлинной любовью всей его жизни — Мари Дюплесси, так по той лишь причине, что манило несбывшееся, мечта, не опороченная исполнением.
Вот! Осталась «Дама с камелиями». Оказавшийся в конце концов достаточно плодовитым, пусть даже и многократно уступая в том непревзойдённому отцу, Дюма-сын создал роман, навсегда вошедший в сокровищницу мировой литературы.
Осталось одно из лучших, если не лучшее в творчестве Дюма-сына стихотворение. Публикуем его в переводе петербургской поэтессы Татьяны Громовой.
И еще осталась память: говорят, ко мраморному надгробию Мари Дюплесси на кладбище Монмартр по сей день регулярно приносят живые камелии…
* * *
Nous nous étions brouillés; et pourquoi? je l'ignore:
Pour rien! pour le soupçon d’un amour inconnu;
Et moi, qui vous ai fuie, aujourd'hui je deplore
De vous avoir quittée et d'être revenu.
Поссорились зачем? Сказать я не сумею.
Безвестная любовь мне заслонила свет.
Стал сторониться Вас, теперь о том жалею,
Винюсь и каюсь, но назад дороги нет.
Je vous avais écrit que je viendrais, madame,
Pour chercher mon pardon, vous voir, à mon retour;
Car je croyais devoir, et du fond de mon âme.
Ma première visite à ce dernier amour.
Я написал: «Мадам, хочу просить прощенья,
Забудем нелады, как нехороший сон,
Мой долг — вернуть любовь, я жажду возвращенья,
Приеду — поспешу явиться на поклон».
Et quand mon âme accourt, depuis longtemps absente
Votre fenêtre est close et votre seuil fermé;
Et voilà qu'on me dit qu'une tombe récente
Couvre â jamais le front que j'avais tant aimé.
Когда ж я наконец к любви примчался милой, —
Захлопнуто окно, закрыта плотно дверь.
Сказали мне: «Иди, там свежая могила
Обителью Мари является теперь».
On me dit froidement qu'après une agonie
Qui dura quatre mois, le mal fut le plus fort,
Et la fatalité jette avec ironie, ет
A mon espoir trop prompt, le mot de votre mort!
Узнал я: Вам пришлось испить страданий чашу,
Тяжёлою была неравная борьба,
И победило зло, и весть о смерти Вашей
С иронией в лицо бросает мне судьба.
J'ai revu, me courbant sous mes lourdes pensées,
L'escalier bien connu, le seuil foulé souvent,
Et les murs qui, témoins des choses effacées,
Pour lui parler du mort, arrêtent le vivant!
Увидел снова я знакомые ступени,
Знакомый до сучка, до гвоздика порог,
Через него шагнул, под грузом дум согбенен,
Туда, где жил меж стен уютный наш мирок.
Je montai; je rouvris, en pleurant, cette porte
Que nous avions ouverte eu riant tous les deux,
Et dans mes souvenirs j'évoquai, chère morte,
Le fantôme voilé de tous nos jours heureux.
И двери в дом любви я отворил, рыдая, —
Мы обретали здесь, смеясь, не раз приют,
И в памяти тотчас построились рядами
Фантомы дорогих, счастливейших минут.
Je m'assis a la table où l'un auprès de l'autre,
Nous revenions souper aux beaux soirs du printemps,
Et de l'amour joyeux, qui fut jadis le notre
J'entendais chaque objet parler en même temps!
Не верю — неужель всё это только мнится?
Бок о бок мы сидим, стол к ужину накрыт,
Но… нету рядом Вас, лишь каждая вещица
Красноречиво мне о чувствах говорит.
Je vis le piano dont mon oreille avide
Vous écouta souvent éveiller le concert;
Votre mort a laissé l'instrument froid et vide,
Comme, en partant, l'été laisse l'arbre désert!
Коснулся клавиш я — и отозвался стоном
Печально инструмент, холодным и пустым.
Играли Вы на нём легко, непринуждённо,
Но с Вашей смертью звук развеялся, как дым.
J'entrai dans le boudoir, cette oasis divine,
Qui nous réjouissait de ses mille couleurs;
Je revis vos tableaux, vos grands vases de Chine,
Où se mouraient encore quelques bouquets de fleurs!
Зашёл и в будуар, божественный оазис,
Что тысячью цветов нас ублажал не раз,
И с болью наблюдал в больших китайских вазах
Агонию цветов, их скорбный смертный час.
J'ai trouvé votre chambre, à la fois douce et sombre,
Et là, le souvenir veillait fort et sacré;
Un rayon éclairait le lit donnant dans l'ombre.
Mais vous ne dormiez plus dans le lit éclairé!
Здесь тихо и темно, и лишь воспоминанье
О чувстве говорит — и сильном, и святом.
Случайный луч упал на ложе в знак прощанья,
Лишь подчеркнув, что жизнь покинула Ваш дом.
Je m'assis à côté de la couche déserte,
Triste à voir comme un nid, l'hiver, au fond des bois.
Et je rivais mes yeux à cette porte ouverte,
Que vous avez franchie une dernière fois!
Печально я стоял над опустелым ложем,
Стон рвался из груди, преграды все круша:
Несмятая постель с гнездом осенним схожа,
И тихо вышла в дверь в последний раз душа.
La chambre s'emplissait de chaleur odorante
Des souvenirs joyeux et pâles : j'entendais
Le murmure alterné de l'horloge ignorante
Qui sonnait autrefois l'heure que j'attendais!
Душистой теплотой пространство наполняли
Поблекшие слегка картины прежних ласк,
И тиканьем своим уже не приближали
Бесстрастные часы свиданья сладкий час.
Je rouvris les rideaux qui, faits de satin rose,
Et voilant, au matin, le soleil à demi,
Permettaient seulement ce rayon qui dépose
La joie et le réveil sur le front endormi.
Я подошел к окну, где розовые шторы
Оберегали Вас от солнечных лучей,
Впуская лишь один-единственный, который
Был Ваш, и только Ваш, теперь же он — ничей.
Or, c'est là qu'autrefois, ma chère ombre envolée,
Nous restions tous les deux lorsque venait minuit.
Et, depuis ce moment, jusqu'à l'aube éveillée
Nous écoutions passer les heures de la nuit.
Мы оба были здесь, и душ переплетенье
Порукой было нам в полуночной тиши.
Осиротел Ваш дом — ни призрака, ни тени
Ушедшей в лучший мир мятущейся души, —
Alors vous regardiez, éclairée à sa flamme, ,
Le feu, comme un serpent, dans le foyer courir.
Car le sommeil fuyait de vos yeux et votre âme
Souffrait déjà du mal qui vous a fait mourir.
Страдающей, больной, болезнью опалённой…
Болезнь исподтишка Вас грызла изнутри…
Нам отблески огня бросал камин зажженный,
Мы коротали ночь бессонно до зари.
Vous souvient-il encor, dans le monde où vous êtes,
Des choses de ce monde, et sur les froids tombeaux
Entendez-vous passer ce cortège de fêtes
Où vous vous épuisiez pour trouver le repos?
А помните ли Вы за гробовой доскою
О том, что было здесь, и слышите ль, Мари,
Шум фееричных дней, что мчались чередою,
Чтоб наконец суметь покой Вам подарить?
Vous souvient-il des nuits où, brûlante amoureuse,
Tordant sous les baisers votre corps éperdu.
Vous trouviez, consumée à cette ardeur fiévreuse
Dans vos sens fatigués le sommeil attendu?
А помните ль, как Вы всем телом извивались
Под водопадом ласк, что вызывают стон,
В горячечных страстях безумно утомлялись,
Чтоб наконец снискать такой желанный сон?
Ainsi qu'un ver rongeant une fleur qui se fane,
L’incessante insomnie étiolait vos jours.
Et c’est ce qui faisait de vous la courtisane
Prompte à tous les plaisirs, prête à tous les amours!
Бессонница тиски сжимала крепче стали,
Подтачивала Вас,
как червь, что точит плод,
И потому, Мари, Вы куртизанкой стали,
Утехами любвиспасаясь от невзгод.
Maintenant vous avez, parmi les fleurs, Marie,
Sans crainte du réveil le repos désiré:
Le Seigneur a soufflé sur votre Ame flétrie,
Et payé d’un seul coup le sommeil arriéré.
Теперь, среди цветов, в кладбищенском покое,
Вас осенил Господь, чья милосердна власть —
Весь сон, что задолжал, вернул Своей рукою,
Послав Вам вечный сон, чтоб отоспаться всласть.
Pauvre fille! On m'a dit qu'à votre heure dernière
Un seul homme était là pour vous fermer les yeux
Et que, sur le chemin qui mène au cimetiere,
Vos amis d'autrefois étaient réduits à deux!
Несчастное дитя! Соседи мне сказали,
Кто Вам закрыл глаза в печальный смертный час.
Лишь двое из друзей, скорбя, сопровождали
На кладбище, Мари, идя за гробом, Вас.
Et bien, soyez bénis, vous deux qui, tête nue,
Méprisant les conseils de ce monde insolent,
Avez, jusques au bout, de la femme connue,
En vous donnant la main, mené le convoi blanc !
Так будьте же, друзья, благословенны оба,
Презревшие молву, что нечестивей лжи.
Исполнили свой долг и в изголовье гроба
Оплакивали ту, что так хотела жить.
Vous qui l'aviez aimée et qui l'avez suivie!
Qui n'êtes point de ceux qui, duc, marquis ou lord
Se faisant un orgueil d'entretenir sa vie
N'ont pas compris l'honneur d'accompagner sa mort!
Вам герцог, лорд, маркиз опеку и вниманье,
Сочтя за долг и честь, дарили вперебой…
Но где же долг и честь последнего прощанья?!
И, как перчатку, им я стих бросаю свой.
Février 1847. Февраль 1847 (Пер. с франц. Татьяны Громовой)
Ему было двадцать лет. Незаконнорожденный, хотя и официально признанный сын великого отца и внук наполеоновского генерала Александра-Тома Дюма, маркиза Дави де ла Пайетри, он жаждал, во-первых, вопреки сомнительному происхождению, вписаться в парижский истеблишмент, а во-вторых, доказать, что природе вовсе не обязательно отдыхать на детях гениев. Первое ему удалось несомненно, однако превзойти славой автора «Трёх мушкетеров» так и не получилось, хотя прочное положение в литературе Дюма-сын уверенно занял. Впрочем, это всё потом, потом… А пока он вот уже два года понемногу публиковал в столичных журналах стихи, встречаемые вполне одобрительно — первые, но твёрдые шаги к цели.
Тут-то его и настиг un coup de foudre, как говорят французы, — удар молнии. В театре он увидел красавицу — и влюбился без памяти. Дюма-отец так описывал её: «В ложе сидела прелестная молодая женщина лет двадцати двух — двадцати трёх. [Он ошибся: ей было всего двадцать — похоже, она выглядела чуть старше своих лет. — А.Б.] Высокая, очень изящная брюнетка с бело-розовой кожей, <…> продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как у японок, только смотрели живо и гордо; у неё были красные, словно вишни, губы и прелестнейшие на свете зубки. Она напоминала статуэтку из саксонского фарфора».
По воспоминаниям современников, она обладала несравненным обаянием, была очень изящна, почти худа, но при этом удивительно грациозна. Где бы она ни появлялась, в руках у неё всегда был букетик камелий — за это пристрастие её и прозвали «дамой с камелиями». Цветы эти, замечу, были выбором не столько эстетическим, сколько физиологическим: страдающую от чахотки — то бишь туберкулёза — молодую женщину пахучие цветы ввергали в приступы кашля, аромат роз или гиацинтов вызывал у неё головокружение, зато с почти лишёнными запаха камелиями она не расставалась; впрочем, отец и сын Дюма об этом тогда не подозревали.
Позволю себе представить вам эту очаровательную незнакомку. Звали её Мари Дюплесси. Впрочем, имя это она себе присвоила для большей благозвучности. В действительности была она фермерской дочкой по имени Альфонсина Плесси (самовольно добавленную к фамилии приставку «дю» она оправдывала происхождением своей бабки из дворянской семьи, а что обедневшей и давным-давно утратившей сословные права — дело десятое). Перебравшись из провинции в столицу, шестнадцатилетняя Альфонсина недолгое время проработала модисткой, но быстро поняла, что с трудов праведных не наживёшь палат каменных. И тогда выбрала стезю куртизанки или, проще говоря, содержанки.
Начало её карьере в этом полупочтенном качестве положил некий ресторатор, но вскоре, умело выбирая места для прогулок, она свела знакомство с герцогом де Гишем. С тех пор жизнь её кардинально изменилась: днём прогулки в экипаже, вечером опера или театр, а затем романтические встречи с мужчинами. В их числе были виконт де Мериль, от которого она родила ребёнка; сын префекта полиции, впоследствии известный литератор Эдуар Делессер; барон де Планси, Генрих де Контаде и другие. Щедрость герцога и прочих поклонников была достаточна, чтобы юная особа могла позволить себе тратить по сто тысяч франков в год.
Не получивши в детстве никакого образования, теперь Мари увлеклась литературой, весьма успешно училась музыке, приобрела изящные манеры и в итоге прослыла одной из самых элегантных куртизанок Парижа, соперничая с такими известными дамами полусвета, как Алиса Ози, Лола Монтес или Атала Бошен. Завсегдатаями её салона стали Эжен Сю, автор известнейших романов того времени «Парижские тайны» и «Вечный жид»; Роже де Бовуар (настоящее имя Эжен Огюст Роже де Булли), автор бессмертного романа «Шевалье де Сен-Жорж», выдержавшего (в то время!) семнадцать изданий, и, кстати, близкий друг Дюма-отца; Арсен Уссе — прозаик, поэт и критик, отец историка Анри Уссе; Альфред де Мюссе, а также многие другие популярные литераторы.
Казалось бы, что общего может быть у известной куртизанки и начинающего поэта, мечтающего стать одним из столпов общества? Что мог он ей предложить? Что она могла ему дать? Но — un coup de foudre! Любовь, как известно, хоть и не слепа, зато умело ослепляет…
Их роман длился не слишком долго — неполный год. И завершился письмом Дюма-сына, где, в частности, говорилось:
«Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить Вас, как хотелось бы <…> И потому давайте забудем оба: Вы — имя, которое Вам было, должно быть, почти безразлично; я — счастье, которое мне больше недоступно.
Бесполезно рассказывать Вам, как мне грустно, потому что Вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать Вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячью лучших воспоминаний…»
Никому не ведомо, какие чувства испытывала к Александру Дюма-младшему Альфонсина-Мари, хотя говорят, будто он принадлежал к тем немногим мужчинам, которые не оплачивали её услуг и пользовались полной взаимностью — то, что называется amant de coeur. Зато известно, что дважды она выходила замуж (оба брака закончились быстрыми разводами) — сперва за бывшего русского посла в Вене, шведского графа фон Штакельберга, а потом, 21 февраля 1846 года, — за сына швейцарского банкира, графа Эдуарда де Перрего. Правда, во Франции их брак не считался действительным, поскольку, заключённый в Лондоне, он не был утверждён французским консулом, что, замечу, не помешало Мари до самой смерти, последовавшей 5 февраля 1847 года, именовать себя графиней и украшать свою карету гербом.
Сочувствуя сыну и дабы отвлечь его от горьких мыслей, Дюма-отец увёз его в долгое путешествие по Испании, Алжиру и Тунису. По возвращении, в Марселе, куда они прибыли на следующий день после того, как в Тулоне сошли с борта пакетбота «Ориноко», их застала весть о кончине куртизанки. Дюма-сын поспешил в Париж, но поздно… Поздно.
Через несколько недель после смерти всё имущество Мари Дюплесси было распродано на аукционе, чтобы покрыть долги — ведь последние два года из-за болезни она не могла зарабатывать привычным способом. Подойдя к дому Мари, Александр-младший увидел объявление о распродаже имущества и поспешил туда. Событие это собрало народу не меньше, чем хорошая пьеса — среди присутствовавших оказался даже Чарлз Диккенс. Стеснённый, как всегда, в средствах, Дюма-сын смог выкупить лишь тонкую золотую цепочку, которую Мари постоянно носила на шее.
Через несколько месяцев Дюма-сын принёс отцу на чтение свой роман «Дама с камелиями», где создал образ Маргариты Готье — идеал любящей до самопожертвования женщины, стоящей несравненно выше осуждающего её света. Прототипом Маргариты, как вы легко можете догадаться, послужила Мари Дюплесси, а героя, Армана Дюваля — он сам.
Само собой, между романом и подлинной историей немалая разница. Начать с того, что Маргарита действительно любила своего Армана. Отец героя, в отличие от Дюма-отца, не только не поддерживал сына, но и стал злым разлучником. Арман же приобрёл у рассказчика-протагониста не золотую цепочку, а купленный на аукционе томик «Манон Леско».
На последнем стоит остановиться особо. «История кавалера де Грие и Манон Леско» — едва ли не первый в мировой литературе психологический роман, вышедший из-под пера одного из крупнейших французских писателей XVIII века аббата Антуана Франсуа Прево, добавившего к фамилии эпитет Ссыльный — Прево д’Экзиль. После первой публикации в 1731 году книга вызвала бурную дискуссию. Несмотря на последовавший цензурный запрет во Франции, она пользовалась популярностью и ходила в списках. Кстати, ею увлекался лицеист Пушкин — между прочим, герои «Капитанской дочки» получили свои имена потому, что выпущенное в Москве первое русское издание «Манон Леско» называлось «Нещастные приключения Машеньки Лесковой и кавалера Гринёва, сочинение батюшки Превота»… Приобретенная Арманом книга — своеобразный ключ, одновременно указывающий и на литературную традицию, и на резко разнящееся прочтение ситуации в XVIII и XIX веках.
Но вернёмся к роману Дюма-сына. Он сразу стал очень популярен, и по совету драматурга Пьера Сиродена Александр вскоре переделал его в пьесу. Дюма-отец одобрил её и собирался поставить в своём Историческом театре, но помешали события революции 1848 года. Наконец в 1850-м театр «Водевиль» принял пьесу к постановке. Но опять возникло препятствие: сюжет для того времени был слишком смел, и министр полиции Леон Фоше запретил постановку. Оба Дюма безрезультатно обращались к цензору де Бофору — увы, запрет остался в силе.
Госпожа Дош, которая должна была исполнять роль Маргариты, в своих хлопотах дошла до Луи-Наполеона. На одну из репетиций пришёл единоутробный брат принца-президента, герцог Морни, и потребовал для пьесы «свидетельство о морали», подписанное тремя знаменитыми писателями. Дюма-сын показал драму Жюлю Жанену, Леону Гозлану и Эмилю Ожье, и те рекомендовали её к постановке. Но и это не помогло. Лишь после переворота 2 декабря Морни, сменивший Фоше, снял запрет на постановку. Таким образом, после упорной борьбы с цензурой пьеса впервые была представлена на сцене в 1852 году — и по праву вошла в золотой фонд мировой драматургии.
«Дама с камелиями» сумела совершить удивительный переворот в умах сначала парижан, а затем и европейцев вообще: «Оказывается, у камелий (как с лёгкой руки Дюма-сына стали называть дам полусвета), тоже есть душа, и эта душа способна на сильную и самоотверженную любовь! Оказывается, продажность — совсем не главное в их облике!». Впрочем, общественное мнение не слишком склонно к длительной героизации кого бы то ни было. Да и у камелий незамедлительно появились подражательницы рангом ниже — на смену держательницам салонов пришли Эллочки-Людоедки, наделённые алчностью и беспринципностью Манон Леско…
Впоследствии Джузеппе Верди создал на основе пьесы оперу «Травиата», премьера которой состоялась в венецианском театре «Ла Фениче» в 1853 году. В ХХ веке роман был неоднократно экранизирован, в том числе с великими Сарой Бернар и Гретой Гарбо в главной роли. Общее же число театральных постановок, опер, балетов и экранизаций достигает двух дюжин.
Однако между романом двадцатилетних Александра и Мари и романом, написанным Дюма-сыном перекинут мостик — стихотворение, написанное Дюма-сыном сразу по возвращении в Париж и считающееся одним из лучших (по крайней мере, самых известных) в его поэтическом наследии. Конечно, в нем есть и привкус ревнивой обиды — в чём повинен, например, граф де Перрего, вполне достойно похоронивший супругу и шедший за катафалком, проводить который собралось, кстати, немало народу?
Так что же ото всей этой истории дожило до наших дней? Любовь? Но ведь она отнюдь не стала для Дюма-сына ни единственной, ни главной в жизни — он был дважды женат, а въедливые биографы пишут ещё и о пяти любовницах, с которыми его связывали длительные романы. И если даже на склоне лет он признавался, что его браки были ошибкой, а единственной подлинной любовью всей его жизни — Мари Дюплесси, так по той лишь причине, что манило несбывшееся, мечта, не опороченная исполнением.
Вот! Осталась «Дама с камелиями». Оказавшийся в конце концов достаточно плодовитым, пусть даже и многократно уступая в том непревзойдённому отцу, Дюма-сын создал роман, навсегда вошедший в сокровищницу мировой литературы.
Осталось одно из лучших, если не лучшее в творчестве Дюма-сына стихотворение. Публикуем его в переводе петербургской поэтессы Татьяны Громовой.
И еще осталась память: говорят, ко мраморному надгробию Мари Дюплесси на кладбище Монмартр по сей день регулярно приносят живые камелии…
* * *
Nous nous étions brouillés; et pourquoi? je l'ignore:
Pour rien! pour le soupçon d’un amour inconnu;
Et moi, qui vous ai fuie, aujourd'hui je deplore
De vous avoir quittée et d'être revenu.
Поссорились зачем? Сказать я не сумею.
Безвестная любовь мне заслонила свет.
Стал сторониться Вас, теперь о том жалею,
Винюсь и каюсь, но назад дороги нет.
Je vous avais écrit que je viendrais, madame,
Pour chercher mon pardon, vous voir, à mon retour;
Car je croyais devoir, et du fond de mon âme.
Ma première visite à ce dernier amour.
Я написал: «Мадам, хочу просить прощенья,
Забудем нелады, как нехороший сон,
Мой долг — вернуть любовь, я жажду возвращенья,
Приеду — поспешу явиться на поклон».
Et quand mon âme accourt, depuis longtemps absente
Votre fenêtre est close et votre seuil fermé;
Et voilà qu'on me dit qu'une tombe récente
Couvre â jamais le front que j'avais tant aimé.
Когда ж я наконец к любви примчался милой, —
Захлопнуто окно, закрыта плотно дверь.
Сказали мне: «Иди, там свежая могила
Обителью Мари является теперь».
On me dit froidement qu'après une agonie
Qui dura quatre mois, le mal fut le plus fort,
Et la fatalité jette avec ironie, ет
A mon espoir trop prompt, le mot de votre mort!
Узнал я: Вам пришлось испить страданий чашу,
Тяжёлою была неравная борьба,
И победило зло, и весть о смерти Вашей
С иронией в лицо бросает мне судьба.
J'ai revu, me courbant sous mes lourdes pensées,
L'escalier bien connu, le seuil foulé souvent,
Et les murs qui, témoins des choses effacées,
Pour lui parler du mort, arrêtent le vivant!
Увидел снова я знакомые ступени,
Знакомый до сучка, до гвоздика порог,
Через него шагнул, под грузом дум согбенен,
Туда, где жил меж стен уютный наш мирок.
Je montai; je rouvris, en pleurant, cette porte
Que nous avions ouverte eu riant tous les deux,
Et dans mes souvenirs j'évoquai, chère morte,
Le fantôme voilé de tous nos jours heureux.
И двери в дом любви я отворил, рыдая, —
Мы обретали здесь, смеясь, не раз приют,
И в памяти тотчас построились рядами
Фантомы дорогих, счастливейших минут.
Je m'assis a la table où l'un auprès de l'autre,
Nous revenions souper aux beaux soirs du printemps,
Et de l'amour joyeux, qui fut jadis le notre
J'entendais chaque objet parler en même temps!
Не верю — неужель всё это только мнится?
Бок о бок мы сидим, стол к ужину накрыт,
Но… нету рядом Вас, лишь каждая вещица
Красноречиво мне о чувствах говорит.
Je vis le piano dont mon oreille avide
Vous écouta souvent éveiller le concert;
Votre mort a laissé l'instrument froid et vide,
Comme, en partant, l'été laisse l'arbre désert!
Коснулся клавиш я — и отозвался стоном
Печально инструмент, холодным и пустым.
Играли Вы на нём легко, непринуждённо,
Но с Вашей смертью звук развеялся, как дым.
J'entrai dans le boudoir, cette oasis divine,
Qui nous réjouissait de ses mille couleurs;
Je revis vos tableaux, vos grands vases de Chine,
Où se mouraient encore quelques bouquets de fleurs!
Зашёл и в будуар, божественный оазис,
Что тысячью цветов нас ублажал не раз,
И с болью наблюдал в больших китайских вазах
Агонию цветов, их скорбный смертный час.
J'ai trouvé votre chambre, à la fois douce et sombre,
Et là, le souvenir veillait fort et sacré;
Un rayon éclairait le lit donnant dans l'ombre.
Mais vous ne dormiez plus dans le lit éclairé!
Здесь тихо и темно, и лишь воспоминанье
О чувстве говорит — и сильном, и святом.
Случайный луч упал на ложе в знак прощанья,
Лишь подчеркнув, что жизнь покинула Ваш дом.
Je m'assis à côté de la couche déserte,
Triste à voir comme un nid, l'hiver, au fond des bois.
Et je rivais mes yeux à cette porte ouverte,
Que vous avez franchie une dernière fois!
Печально я стоял над опустелым ложем,
Стон рвался из груди, преграды все круша:
Несмятая постель с гнездом осенним схожа,
И тихо вышла в дверь в последний раз душа.
La chambre s'emplissait de chaleur odorante
Des souvenirs joyeux et pâles : j'entendais
Le murmure alterné de l'horloge ignorante
Qui sonnait autrefois l'heure que j'attendais!
Душистой теплотой пространство наполняли
Поблекшие слегка картины прежних ласк,
И тиканьем своим уже не приближали
Бесстрастные часы свиданья сладкий час.
Je rouvris les rideaux qui, faits de satin rose,
Et voilant, au matin, le soleil à demi,
Permettaient seulement ce rayon qui dépose
La joie et le réveil sur le front endormi.
Я подошел к окну, где розовые шторы
Оберегали Вас от солнечных лучей,
Впуская лишь один-единственный, который
Был Ваш, и только Ваш, теперь же он — ничей.
Or, c'est là qu'autrefois, ma chère ombre envolée,
Nous restions tous les deux lorsque venait minuit.
Et, depuis ce moment, jusqu'à l'aube éveillée
Nous écoutions passer les heures de la nuit.
Мы оба были здесь, и душ переплетенье
Порукой было нам в полуночной тиши.
Осиротел Ваш дом — ни призрака, ни тени
Ушедшей в лучший мир мятущейся души, —
Alors vous regardiez, éclairée à sa flamme, ,
Le feu, comme un serpent, dans le foyer courir.
Car le sommeil fuyait de vos yeux et votre âme
Souffrait déjà du mal qui vous a fait mourir.
Страдающей, больной, болезнью опалённой…
Болезнь исподтишка Вас грызла изнутри…
Нам отблески огня бросал камин зажженный,
Мы коротали ночь бессонно до зари.
Vous souvient-il encor, dans le monde où vous êtes,
Des choses de ce monde, et sur les froids tombeaux
Entendez-vous passer ce cortège de fêtes
Où vous vous épuisiez pour trouver le repos?
А помните ли Вы за гробовой доскою
О том, что было здесь, и слышите ль, Мари,
Шум фееричных дней, что мчались чередою,
Чтоб наконец суметь покой Вам подарить?
Vous souvient-il des nuits où, brûlante amoureuse,
Tordant sous les baisers votre corps éperdu.
Vous trouviez, consumée à cette ardeur fiévreuse
Dans vos sens fatigués le sommeil attendu?
А помните ль, как Вы всем телом извивались
Под водопадом ласк, что вызывают стон,
В горячечных страстях безумно утомлялись,
Чтоб наконец снискать такой желанный сон?
Ainsi qu'un ver rongeant une fleur qui se fane,
L’incessante insomnie étiolait vos jours.
Et c’est ce qui faisait de vous la courtisane
Prompte à tous les plaisirs, prête à tous les amours!
Бессонница тиски сжимала крепче стали,
Подтачивала Вас,
как червь, что точит плод,
И потому, Мари, Вы куртизанкой стали,
Утехами любвиспасаясь от невзгод.
Maintenant vous avez, parmi les fleurs, Marie,
Sans crainte du réveil le repos désiré:
Le Seigneur a soufflé sur votre Ame flétrie,
Et payé d’un seul coup le sommeil arriéré.
Теперь, среди цветов, в кладбищенском покое,
Вас осенил Господь, чья милосердна власть —
Весь сон, что задолжал, вернул Своей рукою,
Послав Вам вечный сон, чтоб отоспаться всласть.
Pauvre fille! On m'a dit qu'à votre heure dernière
Un seul homme était là pour vous fermer les yeux
Et que, sur le chemin qui mène au cimetiere,
Vos amis d'autrefois étaient réduits à deux!
Несчастное дитя! Соседи мне сказали,
Кто Вам закрыл глаза в печальный смертный час.
Лишь двое из друзей, скорбя, сопровождали
На кладбище, Мари, идя за гробом, Вас.
Et bien, soyez bénis, vous deux qui, tête nue,
Méprisant les conseils de ce monde insolent,
Avez, jusques au bout, de la femme connue,
En vous donnant la main, mené le convoi blanc !
Так будьте же, друзья, благословенны оба,
Презревшие молву, что нечестивей лжи.
Исполнили свой долг и в изголовье гроба
Оплакивали ту, что так хотела жить.
Vous qui l'aviez aimée et qui l'avez suivie!
Qui n'êtes point de ceux qui, duc, marquis ou lord
Se faisant un orgueil d'entretenir sa vie
N'ont pas compris l'honneur d'accompagner sa mort!
Вам герцог, лорд, маркиз опеку и вниманье,
Сочтя за долг и честь, дарили вперебой…
Но где же долг и честь последнего прощанья?!
И, как перчатку, им я стих бросаю свой.
Février 1847. Февраль 1847 (Пер. с франц. Татьяны Громовой)
Андрей Балабуха, Татьяна Громова (Россия, Санкт-Петербург)
О любви, поэзии и прозе
О любви, поэзии и прозе

ПРОЗА